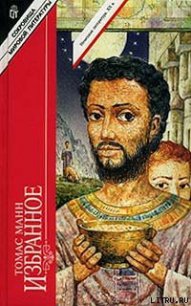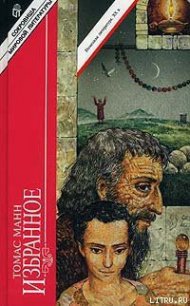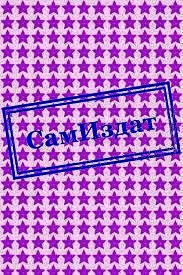Иосиф в Египте - Манн Томас (серия книг txt) 📗
Такова была не только неправдивая, но, увы, и подстрекательская речь Мут-эм-энет. Потифарова челядь стояла в смущенье и замешательстве, одурев уже и от дарового храмового пива, а от услышанного и вовсе. Разве все они не слыхали, не знали, что она бегает за красивым управляющим, а он ей не поддается? А тут вдруг оказывается, что он посягнул на госпожу, захотел овладеть ею силой? Голова у них шла кругом — и от пива, и от этой истории, ибо она была несуразна, а все они от души любили юного управляющего. Кричать она, конечно, кричала; все они это слышали, и все они знали закон, по которому женщина считается невиновной, если она во время нападенья на ее честь громко кричала. К тому же в руках у нее была верхняя одежда управляющего, по виду которой можно было заключить, что она действительно осталась ей в залог, когда он вырвался; но сам он стоял с опущенной головой и молчал.
— Почему вы медлите?! — раздался почтенно-мужественный голос, голос Дуду, важного коротышки, который тоже был тут как тут в своем праздничном, крахмально-оттопыренном набедреннике… — Разве вы не слыхали приказа госпожи, нашей чудовищно оскорбленной и чуть не поруганной госпожи — надеть колодки на этого мальчишку-ибрийца? Вот они, я захватил их с собой. Ибо, услыхав ее законные крики, я сразу смекнул, что к чему, и мигом сбегал за колодками в бичевальную кладовую, чтобы за ними дело не стало. Вот они! Довольно пялить глаза, наденьте скорее колодки на мерзкие руки этого негодяя, купленного однажды вопреки дельному совету по совету болвана и так долго начальствовавшего над нами, чистокровными египтянами! Клянусь обелиском, его препроводят в Дом Пыток и Казни!
Это был желанный час Дуду, женатого карлика, и он насладился им вволю. Нашлись и два челядинца, которые, взяв у Дуду колодки, надели их под смешные теперь причитания Шепсес-Беса на Иосифа; колодки эти представляли собой веретенообразную чурку, намертво схватывавшую и отягощавшую своим весом защелкнутые в особой прорези руки узника.
— Бросьте его на псарню! — приказала Мут с рыданием в голосе. А потом она опустилась наземь там, где стояла, перед открытыми воротами дома, и положила платье Иосифа рядом с собой.
— Вот я сижу, — говорила она нараспев, наполняя звуками темнеющий двор, — вот я сижу на пороге дома, а возле меня лежит вопиющая эта одежда. Отойдите от меня все и не советуйте мне вернуться в дом хотя бы за моим тонким платьем, чтобы избежать простуды из-за вечерней свежести. Я останусь глуха к таким просьбам, ибо я хочу сидеть здесь возле моего залога до тех пор, пока не придет Петепра и чудовищная эта обида не будет искуплена.
Суд
Каждый час, гордый ли, горестный ли, велик по-своему. Когда Исаву дано было бахвалиться и высоко задирать ноги, тогда, конечно, шел час его возвышенья, его почета. Но когда он выбежал из шатра — «Проклятье! Проклятье!» — и сел на корточки, чтобы заплакать крупными, как орехи, слезами, — разве этот час был для косматого брата менее велик и торжествен?.. Глядите, вот он, мучительнейший час Петепра, час, которого он однако, в сущности, всегда ожидал: охотясь ли на птиц на бегемотов и на зверей пустыни, читая ли старых добрых авторов, он всегда смутно готов был к такому часу и только не знал его подробностей, хотя они, как оказалось, когда срок наконец исполнился, в большой мере зависели от него, — и право же, он оказался тут на высоте положенья.
Он въехал во двор с факелами, на колеснице, управляемой его возничим Нетернахтом, — раньше, как мы уже сказали, чем это требовалось для вечернего приема, из-за своих предчувствий. Это было одно из тех многих возвращений, во время которых он всегда ждал беды, только на этот раз беда и в самом деле пришла. «Все ли благополучно в доме? Весела ли госпожа?» — Вот именно, нет. Госпожа трагически сидит на пороге твоего дома, а твой утешительный чашник лежит на псарне с колодками на руках.
Так, так, таким, значит, образом это произошло. Ну, что ж, возьмем это на себя! Что Мут, его жена, как-то страшно сидела перед дверью дома, он увидал еще издали. Тем не менее, вылезая из своей блестящей повозки, он задал привычные эти вопросы, но на сей раз они остались без ответа. Помогавшие ему слуги опустили головы и промолчали. Так, так, именно этого он всегда ждал, хотя бы другие подробности этого часа и сложились иначе, чем ему думалось… Покуда одни слуги уводили его упряжку, а другие по-прежнему стояли на освещенном факелами дворе поодаль от господина, этот нежный, рувимоподобный великан поднялся с опахалом и почетным жезлом в руке по ступенькам к сидевшей.
— Что бы значила, дорогая подруга, — спросил он с вежливой осторожностью, — эта картина? Ты сидишь в легкой одежде у порога, а рядом с тобой лежит какой-то непонятный предмет?
— Да, это так! — отвечала она. — Твое описание, правда, вяло, невыразительно, ибо картина эта гораздо сильней и ужасней, чем в твоей, мой супруг, передаче, но по существу твое утверждение верно: я действительно сижу здесь, а рядом со мною действительно лежит предмет, значение которого тебе, к ужасу твоему, придется понять.
— Помоги мне в этом! — ответил он.
— Я сижу здесь, — сказала она, — в ожидании твоего суда — над гнуснейшим преступленьем, какое когда-либо видели эти страны, а может быть, и все царства народов.
Он особым образом сложил пальцы, чтобы отвратить зло, и стал спокойно ждать объясненья.
— Этот раб-ибриец, — пела она, — которого ты ввел в наш дом, вздумал со мной потешиться. Я молила тебя в вечерней палате, я обнимала твои колени, чтобы ты прогнал своего чужеземца, ибо я не ждала от него ничего хорошего. Но напрасно, слишком дорог был тебе этот раб, и ты заставил меня уйти ни с чем. Ну, а теперь этот развратник напал на меня, вздумав причинить мне наслажденье в твоем пустом доме, и он был уже в состоянье мужской готовности. Ты не веришь мне, тебе это кажется невероятным? Погляди же на этот знак, истолкуй же его, как должно! Знак сильнее, чем слово; его нельзя толковать вкривь и вкось, ибо он говорит недвусмысленным языком вещей. Гляди! Разве это не платье твоего раба? Проверь как следует, ибо я обелена перед тобой этим знаком. Когда я закричала под натиском этого чудовища, он испугался и побежал от меня, но я схватила его за платье, и он от страха оставил его у меня в руках. Вот оно, перед твоими глазами, — доказательство его мерзости, а вдобавок доказательство его бегства и того, что я подняла крик. Ибо если бы он не пустился бежать, у меня не осталось бы его платья, а если бы я не подняла крика, он бы не пустился бежать. Кроме того, вся твоя дворня может засвидетельствовать, что я кричала, — спроси этих людей!
Петепра стоял опустив голову и молчал. Затем он вздохнул и сказал:
— Это очень печальная история.
— Печальная? — повторила она с угрозой.
— Я сказал: «очень печальная», — ответил он. — Но она даже ужасна, и я поискал бы, пожалуй, еще более сильного определения, если бы из твоих слов нельзя было заключить, что благодаря твоему знанью законов и присутствию духа она окончилась еще сравнительно благополучно, ибо могло быть и хуже.
— А бесчестному этому рабу ты никаких определений не подыскиваешь?
— Он бесчестный раб. Так как речь сейчас идет о его поведенье, то определение «очень печальное» относилось, конечно, в первую очередь к нему. И надо же, чтобы эта беда поразила меня не в какой-нибудь другой, а непременно в сегодняшний вечер — в вечер прекрасного дня моего производства в единственные друзья, когда я возвращаюсь домой, чтобы отметить милость и любовь фараона небольшим торжеством, на которое вот-вот съедутся гости. Признай, что это жестоко!
— Петепра! Есть ли у тебя сердце?
— Почему ты об этом спрашиваешь?
— Потому что в этот несказанный час ты можешь говорить о своем новом придворном званье и о том, как ты отпразднуешь его полученье.
— Но ведь я же сделал это только для того, чтобы резче противопоставить несказанность часа приятности дня и тем самым подчеркнуть эту несказанность. Такова уж, видно, природа несказанного, что о нем самом нельзя говорить, и, чтобы его выразить, нужно говорить о другом.