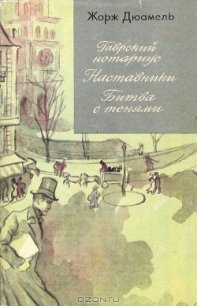Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье - Дюамель Жорж (читать книги полностью .txt) 📗
Дорогой старый друг, от тебя нет вестей почти целую неделю. Не откликнулся ты и на мое, правда, очень краткое письмо, в котором я сообщал, что лишился всего и в то же время все приобрел, ибо скоро женюсь. И действительно, я рассчитываю жениться в ближайшие дни, если, конечно, не помешают немцы.
По-прежнему ли ты в Нанте? Дойдет ли до тебя мое письмо? Но мне все равно необходимо написать тебе, хотя бы для того, чтобы излиться в своих чувствах перед истинным другом. Мне необходимо рассказать о себе. Я стыжусь этого. Мы живем здесь в ожидании и тревоге. Конечно, совершенно несоизмеримы опасность, угрожающая Европе, и моя личная ничтожная катастрофа, и между ними нет никакой связи. Тем не менее в моем уме все эти события, и большие и крошечные, смешиваются, сливаются в одно. Все раны одновременно дают себя знать. Я должен бы пребывать в полном отчаянии, ибо мне причинили много зла, причинили, кажется, все зло, какое только могли. Неделю тому назад я думал лишь о том, как бы умереть, расстаться с этим страшным миром. Сегодня я хочу жить, хочу начать жизнь сначала. Я полон планов, решений, расчетов. И это в такой момент, как сам понимаешь, когда великий долг, быть может, потребует от меня жизни, лишит меня жизни, которая мне все еще дорога. Жаклина в таком же настроении.
Будущее весьма неопределенно, весьма темно, а мы только о будущем и говорим.
Минувшей зимой Шлейтер как-то сказал мне своим загробным голосом: «Тридцать три года! Спешите, дорогой мой! Вот увидите, не успеете оглянуться — и конец!» Но Шлейтер ошибается. Тридцать три года! Все еще отнюдь не кончено, раз мне приходится начинать сначала.
Жаклина виделась с гражданином Беллеком. Оказывается, старый простофиля свалился с небес. Он ничего не понимал, ни о чем не догадывался, — тут отчасти и наша вина. Словом, он заявил, что стоит прежде всего за полную свободу. Нам не придется составлять «почтительное требование». К несчастью, если во Франции будет объявлена мобилизация, как этого опасаются, я уеду на второй же день. Все это не будет благоприятствовать нашему браку. Ничего! Я все-таки женюсь. Если не в Париже, так в Ремиремоне, куда мне предстоит явиться, или по окончании войны, которая не может долго продолжаться. Да еще неизвестно, будет ли война. Многие здесь в нее не верят, например, Ронер, о котором я тебе недавно писал. Я живу, как видишь, в полной неопределенности. И все же я счастлив, счастлив безумно, безгранично.
Представь себе, я получил телеграмму от г-на Эрмереля, моего дорогого, доброго начальника; сейчас он в Индокитае. Французские газеты попали в его руки с большим опозданием. Он пишет: «Ваша статья превосходна. Я всем сердцем с вами». Милый г-н Эрмерель! Помнишь, ведь не кто иной, как он, исхлопотал мне орден, в год «Бьеврского Уединения», потому что я испробовал на себе его новую вакцину. Думаю, что в конечном счете, несмотря на кампанию в прессе, у меня этот несчастный орден не отберут. У господ из капитула Ордена найдутся и другие дела.
В мелких газетках писали, будто я дал Лармина пощечину, будто поколотил его. Тут значительное преувеличение. В порыве гнева меня сильно подмывало побить его, точнее — задушить. Но мысль, что придется взяться за него руками, коснуться его кожи, внушала мне, к счастью, спасительный ужас, своего рода священное отвращение.
Мне пришлось посетить г-на Ронера, чтобы передать дела, касающиеся «Биологического вестника». Я отправился к нему, стиснув зубы, готов был кусаться. Он принял меня превосходно. Я шел, собираясь обругать его, ибо вообще был в боевом настроении, еще не успокоился, не остыл. Г-н Ронер сразу же обезоружил меня. Он сказал со смешком: «Поздравляю вас по поводу Ларми-на!» Странное дело: сцена с Лармина разыгралась в полной тайне. Я рассказал о ней только Шартрену, и он почти тотчас же уехал из Парижа. Сам Лармина, казалось бы, по многим причинам должен о ней умолчать. И что же — всему Парижу известно, что на прошлой неделе между мной и Лармина произошла перепалка. А воображение у всех, как я тебе уже говорил, работает бойко. Мне приписывают куда больше того, что я сделал.
Итак, Ронер поздравил меня. Я сразу же размяк. Характер г-на Ронера мне не по душе, но я восхищаюсь его умом. Я тут же отказался от того, что профессор Гийом де Нель еще недавно называл «четвертым упражнением», то есть от сцены с боевыми выпадами.
Когда я уходил, г-н Ронер намекнул на то, что он называет моим «делом». Он сказал:
— Вы слывете человеком с несносным нравом. Мы постараемся все это уладить после каникул, в ноябре.
Я робко заметил:
— Но если начнется война...
Он холодно возразил:
— Ну, война вообще все уладит — и ваше дело, и все остальное.
Он не верит в войну. Он говорит: «Немцы как-никак не такие дураки». Он всегда восторгался немцами. На прощанье он добавил:
— Постарайтесь отдохнуть.
Нет, отдыхать я не хочу. Я решил впредь никогда не отдыхать, слишком трудно потом опять возвращаться к работе. Великие дела свершаются только в порыве, во вдохновенном усилии. Если война разразится и если я, по счастью, уцелею, я хочу работать, работать, браться за большие дела и осуществить их, пока не настанет единственный возможный отдых: «Dona eis requiem aeter-nam». [12]
Ронер всерьез спросил у меня: «Говорили ли вы с политическими деятелями?» Что за вопрос? Я не говорил с политическими деятелями и никогда не буду с ними говорить — даже если войны не будет. Когда я наблюдал за врачами, за хирургами, наблюдал за работой моих учителей, в том числе и грозного г-на Ронера, мне всегда казалось, что передо мною люди ответственные, люди достойные выполнять лежащий на них грозный долг. Зато каждый раз, когда мне доводилось встречаться с политическими деятелями, с членами правительства, всегда оказывалось, что это люди нерешительные, несколько безликие, несколько невежественные, которые играют в правительство и крайне тешатся такой игрой. Между хирургом, который во всеоружии накопленных знаний рассекает живую плоть, и красноречивым парламентским оратором, защищающим свою программу, весьма мало общего. Поэтому я не разговаривал с политическими деятелями и думаю, что в настоящий момент у них достаточно серьезных забот, чтобы не иметь ни малейшего желания заниматься мною.
В который раз уже я говорю с тобою о своих учителях с глубоким уважением. Однако не все они в равной степени достойны уважения. Я тебе уже кое-что рассказывал о г-не Дебаре, великане со львиной головой, который ничем не помог мне по той причине, что ждет ордена — ордена, который, судя по событиям, он так и не получит. Я с ним снова повидался. Случилось это еще до стычки с Лармина. Дела мои были в тот момент в самом плачевном состоянии. Г-н Дебар принял меня в своем рабочем кабинете. Он по-прежнему казался львом, однако львом в наморднике. Разговаривая, он посматривал по сторонам, как бы проверяя, не подслушивают ли его. Он сказал мне: «Повремените. Поживите в полном уединении. Трудитесь в тиши. Жизнь человеческая продолжительна. У всех встречаются невзгоды, их надо пережить, а потом все вновь проясняется... »
Пока он выкладывал эти пошлости, из соседней гостиной послышались голоса. Г-н Дебар стал в замешательстве ерзать в кресле. Он понизил голос: «Сейчас мне предстоит принять делегацию. Понимаете, делегацию моих коллег». Он встал, с напускной фамильярностью положил мне руку на плечо и вывел меня в другую дверь. Квартира его, старая и неудачно расположенная, мне несколько знакома. Я вдруг сообразил, что г-н Де-бар боится проводить меня через гостиную, где собрались его коллеги, а хочет вывести на черный ход. Тут я остановился, пристально посмотрел ему в лицо и сказал: «Понимаю! Нет, профессор, нет!» Я повернулся обратно и прошел через гостиную, где находилось человек десять, большинство коих я знаю. Я прошел через комнату, не надевая шляпы и ни слова не говоря. Г-н Дебар, несомненно, был страшно огорчен, когда обнаружилось, что он принимает прокаженного. Теперь можно сказать наверняка, что г-н Дебар на всю жизнь мне враг.