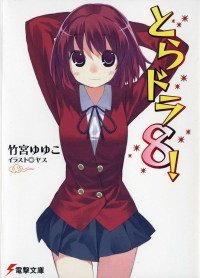Разгром - Золя Эмиль (книги регистрация онлайн TXT) 📗
– Правда? Ты ведь мой мальчик, маленький пруссак?.. Пойдем со мной!
Но Сильвина, вся дрожа, уже схватила ребенка и прижала к груди.
– Он пруссак? Нет, нет! Он француз, он родился во Франции!
– Француз? Да поглядите на него, поглядите на меня! Ведь это мой портрет! Разве он на вас похож?
Только теперь она разглядела этого крупного белокурого мужчину, его курчавые волосы и бороду, широкую розовую рожу, большие голубые глаза, блестящие, как фаянс. Он был прав: у малыша такие же рыжеватые патлы, такие же щеки, такие же светлые глаза. Да, это их, немецкая порода. Себя она чувствовала совсем другой, глядя на пряди своих черных волос, которые в беспорядке спадали на плечи.
– Я его родила, он мой! – яростно сказала она. – Да, он француз, и никогда он не будет знать ни слова из вашей поганой немецкой тарабарщины; да, он француз, и когда-нибудь он убьет вас всех, чтоб отомстить за тех, кого убили вы!
Шарло обхватил ее шею, заплакал и закричал: – Мама! Мама! Боюсь! Унеси меня!
Тогда Голиаф, по-видимому не желая скандала, попятился и, обращаясь к ней снова на «ты», грубо объявил:
– Сильвина! Запомни хорошенько, что я тебе скажу!.. Я знаю все, что здесь происходит. Вы принимаете вольных стрелков из леса Дьеле, вы снабжаете хлебом Самбюка, этого бандита, который приходится братом вашему батраку. Я знаю, что Проспер – африканский стрелок, дезертир, он принадлежит нам; я знаю, что вы укрываете здесь раненого, тоже французского солдата; одного моего слова довольно, чтоб отправить его в Германию, в крепость… А-а? Видишь, у меня точные сведения!..
Она слушала молча, с ужасом, а Шарло, повиснув у нее на шее, запинаясь, твердил:
– Мама! Мама! Унеси меня! Боюсь!
– Так вот! – продолжал Голиаф. – Я человек не злой и не люблю ссор, ты сама это знаешь; но клянусь, я велю арестовать всех, и дядю Фушара и других, если в понедельник ты не впустишь меня в свою комнату… И еще заберу малыша и отошлю в Германию к моей матери, а уж она будет этим очень довольна; раз ты хочешь порвать со мной, он принадлежит мне!.. Понимаешь? Мне стоит только прийти и забрать его, когда никого не будет дома, ясно?.. Хозяин теперь я. Я делаю, что хочу!.. Ну, как ты решаешь?
Она не отвечала, она только прижимала к себе ребенка, словно опасаясь, что его отнимут сейчас же, и ее большие глаза сверкали от ненависти и ужаса.
– Ладно! – сказал Голиаф. – Даю тебе три дня сроку, подумай хорошенько!.. Оставь открытым свое окно, то, которое выходит в сад… Если в понедельник, в семь часов вечера, окно не будет открыто, я велю всех арестовать и заберу малыша!.. До свидания, Сильвина!
Он спокойно вышел, а она стояла, словно прикованная к месту, и в ее голове звенели роем такие тяжелые, такие страшные мысли, что она просто ошалела от них. И целый день в ней таилась буря. Сначала Сильвина бессознательно хотела унести Шарло и бежать куда глаза глядят; но что делать, куда деваться, когда стемнеет, и как заработать на себя и на ребенка? Не говоря уж о том, что пруссаки рыщут по дорогам, схватят ее и, может быть, приведут назад. Потом она решила поговорить с Жаном, предупредить Проспера и самого старика Фушара, но опять заколебалась, не решилась: уверена ли она в их дружбе, – как знать, не пожертвуют ли они ею ради общего спокойствия? Нет, нет! Не говорить никому, самой надо придумать способ избежать опасность; она сама вызвала ее своим упорным отказом. Но что ж придумать? Боже мой! Как предотвратить несчастье? Ее честная натура восставала против него, она никогда в жизни не простит себе, если по ее вине приключится беда с кем бы то ни было, а особенно с Жаном, который так любит Шарло.
Проходили часы, прошел следующий день, а она ничего не придумала. Она, как всегда, хлопотала по хозяйству, подметала пол на кухне, ухаживала за коровами, варила суп. Она хранила полное молчание, грозное молчание, но в ней с каждым часом нарастала жгучая ненависть к Голиафу. Он был ее грехом, проклятием. Если бы не он, она бы дождалась Оноре, и Оноре остался бы жив, и ода была бы счастлива. Каким тоном он объявил: «Я хозяин!». Впрочем, это правда: нет больше ни жандармов, ни судей, не к кому обратиться; существует один закон – сила. Эх, стать сильней его, схватить его самого, когда он придет, раз он угрожает схватить других! Для нее существовал только ребенок, плоть от ее плоти. Случайный отец не принимается в расчет и никогда не принимался. Она ему не жена; при мысли о нем в ней поднимался только гнев, злоба побежденной. Лучше убить ребенка и покончить с собой, чем отдать его Голиафу! Ведь она уже сказала: она хотела бы, чтобы этот ребенок, которого Голиаф ей дал, словно в дар ненависти, был уже взрослым, способным ее защитить; она уже представляла себе, как он стреляет из винтовки, как он пробивает шкуру всем пруссакам в Германии. Да, да, одним французом будет больше – французом, истребителем пруссаков!
Меж тем остался только один день, надо было на что-то решиться. В первую же минуту в ее больном, потрясенном сознании мелькнула жестокая мысль: уведомить вольных стрелков, сообщить Самбюку сведения, которых он ждал. Но эта мысль осталась неопределенной, смутной; Сильвина ее отогнала, как нечто чудовищное, недостойное даже обсуждения: ведь Голиаф все-таки отец ее ребенка, она не может помочь им убить его. Однако эта мысль пришла снова, мало-помалу овладела ею, побуждала торопиться и, наконец, предстала во всей победной силе своей простоты и безусловной правоты.
После смерти Голиафа всем – Жану, Просперу, дяде Фушару – больше нечего будет опасаться. А она сохранит Шарло, и никто уж его не отнимет! В глубине ее души возникло и нечто другое, глубокое, бессознательное: потребность покончить с прошлым, уничтожить следы отцовства, уничтожив самого отца, и с жестокой радостью почувствовать, что она очистилась от своего греха, что она теперь одна распоряжается судьбой ребенка, безраздельно, независимо от самца. Она еще целый день обдумывала этот план, не имея больше сил отвергнуть его, представляя себе во всех подробностях эту западню, предвидя, сопоставляя малейшие факты. Теперь это стало неотступной мыслью, мысль эта засела в голове, уже бесспорная, и Сильвина в конце концов решилась; она подчинилась натиску неизбежности и стала действовать, словно во сне, по воле какой-то другой женщины, которую раньше никогда не знала в себе.