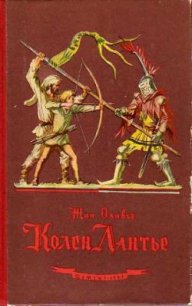Западня - Золя Эмиль (читать книги онлайн без TXT) 📗
– Господин, послушайте…
Мужчина остановился. Но, казалось, он не слышал слов Жервезы. Он протянул руку и тихо прошептал:
– Подайте, Христа ради…
Они взглянули друг на друга. Боже мой, до чего дошло! Дядя Брю просит милостыню, г-жа Купо шляется по панели! Разинув рот, остановились они в оцепенении. В этот час они могли подать друг другу руку. Старик рабочий весь вечер ходил по улицам, не решаясь просить, – и когда он впервые осмелился остановить человека, это оказалась умирающая с голоду Жервеза. Господи, это ли не ужас! Работать пятьдесят лет подряд, – и просить подаяние. Быть одной из самых лучших прачек и гладильщиц на улице Гут-д'Ор, – и кончить жизнь на панели! Жервеза и дядя Брю смотрели друг на друга. Потом молча разошлись, и каждый пошел своей дорогой, а снег и ветер яростно хлестали их.
Разыгралась настоящая метель. Снег бешено крутился по парижским холмам, по просторным площадям и улицам; казалось, ветер дул со всех четырех сторон сразу. Все затянула белая, клубящаяся летучая завеса, в десяти шагах ничего не было видно. Весь квартал исчез, бульвар казался вымершим, как будто белый покров снежной бури приглушил крики запоздалых пьяниц. Жервеза все шла, шла через силу. Она совсем ослепла, она растерялась. Она шла, держась за деревья. Из густой снежной пелены по временам, словно притушенные факелы, выплывали газовые фонари. Но Жервеза прошла какой-то перекресток – и вдруг не стало и этих источников света. Белый вихрь захватил и закружил ее, – она окончательно сбилась с пути. Смутно белевшая мостовая уплывала из-под ног. Серые стены преграждали дорогу, и, только останавливаясь и нерешительно оглядываясь кругом, Жервеза сознавала, что за этой ледяной завесой расстилаются бульвары и улицы, длинные-длинные линии газовых фонарей, вся бесконечная и черная пустыня спящего Парижа.
Жервеза стояла на площади в том месте, где внешний бульвар пересекают бульвары Мажента и Орнано, и мечтала о том, чтобы тут же, не сходя с места, лечь на землю, когда, наконец, заслышала чьи-то шаги. Она бросилась им навстречу, но снег залеплял ей глаза, а шаги удалялись, и она не могла разобрать, направо или налево. Наконец она разглядела темное качающееся пятно, терявшееся в тумане, – широкие мужские плечи. О, этот человек нужен ей, она от него не отстанет! И Жервеза побежала еще быстрее, догнала мужчину, схватила его за блузу.
– Господин, господин, послушайте…
Мужчина обернулся. Это был Гуже.
Вот кого она поймала! Золотую Бороду! Что сделала она, за что бог так невыносимо мучит ее, мучит до самого конца? Ей был нанесен последний удар: кузнец увидел, как она жалка, увидел ее в роли продажной девки. Их освещал газовый рожок. Жервеза смотрела на свою безобразную тень, кривлявшуюся на снегу, на свою карикатуру. Можно было подумать, что она пьяна. За два дня не съесть ни крошки, не выпить ни капли – и казаться пьяной!.. Сама виновата, зачем пила раньше! Уж, конечно, Гуже подумал, что она пьяна и развратничает на улице.
А Гуже глядел на Жервезу, и снег оседал звездочками на его красивой золотой бороде. Когда же она опустила голову и отступила, он удержал ее.
– Идемте, – сказал он.
И пошел вперед. Жервеза последовала за ним. Бесшумно скользя вдоль стен, пересекли они притихший квартал. В октябре бедная г-жа Гуже умерла от острого ревматизма. Гуже одиноко и мрачно жил все в том же домике на Рю-Нев. В этот день он возвращался так поздно потому, что засиделся у больного товарища. Открыв дверь и засветив лампу, он повернулся к Жервезе, которая, не смея войти, ждала на площадке, и сказал шепотом, как будто его еще могла услышать мать:
– Войдите.
Первая комната, комната г-жи Гуже, благоговейно сохранялась в том виде, в каком она была при ее жизни. У окошка, возле большого кресла, которое как будто поджидало старую кружевницу, лежали на стуле пяльцы. Постель была застлана, и если бы старушка пришла с кладбища провести вечер с сыном, она могла бы лечь спать. Комната была чисто прибрана, в ней царила атмосфера доброты и порядочности.
– Войдите, – громче повторил кузнец.
Жервеза вошла робко, словно гулящая девка, втирающаяся в приличный дом. Гуже был бледен и дрожал: он впервые ввел женщину в комнату покойной матери. Они прошли эту комнату на цыпочках, словно боялись, что их услышат. Пропустив Жервезу в свою комнату, Гуже запер дверь. Здесь он чувствовал себя дома. Тесная комнатка, знакомая Жервезе, – настоящая комната юноши-школьника, с узкой железной кроватью за белым пологом. Стены были по-прежнему до самого потолка заклеены вырезанными картинками. Было так чисто, что Жервеза не смела двигаться, – она забилась в угол, подальше от лампы. А Гуже не говорил ни слова. Бешеное возбуждение овладело им, ему хотелось схватить ее и раздавить в объятиях. Но она совсем теряла силы.
– Боже мой… боже мой… – шептала она.
Закопченная печь еще топилась, и перед поддувалом дымились остатки рагу: Гуже нарочно поставил сюда еду, чтобы, вернувшись домой, поесть горячего. Жервеза совсем обессилела от тепла; ей хотелось встать на четвереньки и есть прямо из горшка. Голод был сильнее ее. Он разрывал ей внутренности, и она со вздохом потупила глаза. Но Гуже понял. Он поставил рагу на стол, отрезал хлеба, налил в стакан вина.
– Спасибо! Спасибо! – шептала она. – О, как вы добры!.. Спасибо!
Жервеза заикалась, слова не сходили у нее с языка. Она так дрожала, что вилка выпала у нее из рук. Голод душил ее, голова у нее затряслась, как у старухи. Пришлось есть пальцами. Положив в рот первую картофелину, она разразилась рыданиями. Крупные слезы катились по ее щекам и капали на хлеб. Но она ела, она с дикой жадностью поглощала хлеб, смоченный слезами, она задыхалась, подбородок ее судорожно кривился. Чтобы она не задохнулась окончательно, Гуже заставлял ее пить, и края стакана постукивали о ее зубы.
– Хотите еще хлеба? – спросил он вполголоса.
Она плакала, говорила то да, то нет, она сама не знала. Господи боже, как это хорошо и горько есть, когда умираешь с голоду! А он стоял и глядел ей в лицо. Теперь, под ярким светом абажура, он видел ее очень ясно. Как она постарела и опустилась! На ее волосах и одежде таял снег, с нее текло. Трясущаяся голова совсем поседела, ветер растрепал волосы, и седые пряди торчали во все стороны. Голова ушла в плечи. Жервеза сутулилась, была так толста и нелепа, что хотелось плакать. И Гуже вспомнил свою любовь, вспомнил, как розовощекая Жервеза возилась с утюгами, вспомнил детскую складочку, украшавшую ее шею. В те времена он мог любоваться ею целыми часами; ему нужно было только видеть ее – и больше ничего. А позже она сама приходила в кузницу, – и какое наслаждение испытывали они, когда он ковал железо, а она глядела на пляску его молота. Сколько раз кусал он по ночам подушку, мечтая видеть ее вот так, как теперь, в своей комнате! О, он так рвался к ней, что если б обнял ее, она бы сломалась! И вот сейчас она была в его власти. Она доедала хлеб, и ее слезы падали в горшок с пищей, – крупные молчаливые слезы, не перестававшие течь все время, пока она ела.