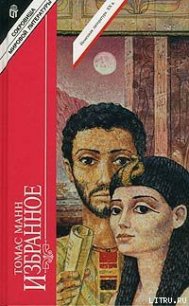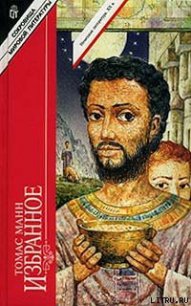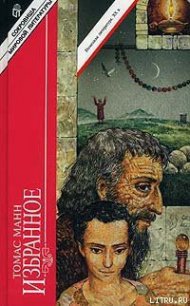Смерть в Венеции - Манн Томас (бесплатные книги онлайн без регистрации txt) 📗
Такие мысли проносились в его одурманенном мозгу, так пытался он обрести почву под ногами, сохранить свое достоинство. И в то же время он настороженно и неотступно вел наблюдение за нечистыми событиями на улицах Венеции, за бедой во внешнем мире, таинственно сливавшейся с бедою его сердца, и вскармливал свою страсть неопределенными беззаконными надеждами. Одержимый желанием узнать новое и достоверное о состоянии и развитии мора, он торопливо пробегал глазами немецкие газеты в кофейнях, так как они уже несколько дней назад исчезли из читальни отеля. Число заболеваний и смертных случаев равнялось будто бы двадцати, сорока, наконец дошло уже до сотни и более, но тут же вслед за цифрами об эпидемии говорилось лишь как об отдельных случаях заражения, инфекция объявлялась завезенной извне. И все это перемежалось протестами и предостережениями против опасной игры итальянских властей. Словом, доискаться истины было невозможно.
Ашенбах в своем одиночестве считал знание этой тайны за подобающую ему привилегию и, хоть и был здесь совсем сторонним человеком, находил непонятное удовлетворение в том, чтобы с помощью коварных вопросов вынуждать людей осведомленных, но обязанных молчать, к прямой лжи. Так однажды за завтраком в большом зале он заговорил с администратором, маленьким тихим человечком во французской визитке, который, раскланиваясь на все стороны и неусыпно следя за происходящим, остановился возле столика Ашенбаха, намереваясь перекинуться с ним двумя-тремя словами. «Почему, собственно, – как бы мимоходом полюбопытствовал Ашенбах, – в последнее время Венецию стали дезинфицировать? Что за странная идея?» – «Полицейское мероприятие, – отвечал тихий человечек, – имеющее целью охрану общественного здоровья, которое всегда подвергается некоторой опасности в такую знойную и ветреную погоду».
– Похвальная предусмотрительность, – заметил Ашенбах.
Они обменялись еще несколькими соображениями метеорологического характера, и администратор откланялся.
Вечером того же дня, уже после обеда, маленькая труппа бродячих певцов из города давала представление в саду перед отелем. Двое мужчин и две женщины стояли, прислонясь к железному столбу фонаря и обратив белые от яркого света лица к террасе; курортные гости, сидевшие там за кофе и прохладительными напитками, снисходительно принимали это народное зрелище. Персонал отеля, лифтеры, официанты и конторские служащие выглядывали из дверей. Русское семейство, охочее до зрелищ и умеющее наслаждаться, полукругом расположилось в саду, поближе к актерам, на принесенных с террасы соломенных стульях. За господами, в закрученном как тюрбан платке, стояла их старая рабыня.
Мандолина, гитара, гармонь и пискливая скрипка не умолкали в руках нищих виртуозов. Игра сменялась вокальными номерами. Та из женщин, что была помоложе, пронзительным, скрипучим голосом исполнила любовный дуэт со слащаво фальцетирующим тенором. Но подлинно талантливым актером и премьером труппы выказал себя гитарист, обладатель так называемого комического баритона; почти безголосый, он отличался удивительным мимическим даром и большой экспрессией. Не выпуская из рук инструмента, он то и дело отрывался от остальных и подбегал к рампе, чтобы в награду за свои веселые дурачества услышать снисходительный смех. Больше всех этой южной живостью восторгались русские в своем партере, хлопками и возгласами они поощряли его к еще более задорным и смелым выходкам.
Ашенбах сидел у балюстрады и время от времени потягивал смесь из гранатового сока и содовой воды, рубинами сверкавшую в его бокале. Его нервы упивались пошлыми звуками и вульгарно-томной мелодией, ибо страсть подавляет чувство изящного и всерьез воспринимает те дразнящие, возбуждающие впечатления, к которым в трезвом состоянии мы отнеслись бы юмористически или попросту брезгливо их отвергли. От прыжков скомороха черты его застыли, страдальческая улыбка уже искривила его рот. Он сидел непринужденно и вольно, хотя внутренне был напряжен до крайности, ибо шагах в пяти от него возле каменной балюстрады стоял Тадзио.
На нем был тот белый костюм с кушаком, который он иногда надевал к обеду. С неотъемлемой от него врожденной грацией он опирался левой ладонью о перила, правой рукой – в бедро и, скрестив ноги, не то чтобы с улыбкой, а с какой-то тенью любопытства и с учтивой внимательностью смотрел вниз на бродячих певцов. Время от времени он выпрямлялся и, расправив грудь красивым жестом обеих рук, заправлял под кушак свою белую куртку. Но иногда, стареющий Ашенбах с торжеством отмечал это, он оборачивался через левое плечо нерешительно, с опаской, или же вдруг внезапно и быстро, словно хотел застать врасплох того, кто его любил. Он не встречался с ним глазами, потому что позорное опасение заставляло Ашенбаха потуплять свой взор. В глубине террасы сидели женщины, опекавшие Тадзио, и дело зашло так далеко, что влюбленный Ашенбах боялся, как бы они его не разоблачили, не заподозрили. Цепенея от ужаса, он уже не раз замечал на пляже, в зале ресторана и на площади св.Марка, что они всякий раз отзывали Тадзио, если тот оказывался вблизи от него, всячески старались держать его поодаль – страшное оскорбление, заставлявшее его гордость изнывать в неведомых доселе муках, оскорбление, пренебречь которым ему не позволяла совесть.
Между тем гитарист под собственный аккомпанемент начал исполнять сольный номер, длинную площадную песню, распространенную в то время во всей Италии; ее рефрен всякий раз подхватывался его партнерами, и надо отдать справедливость певцу, он умел внести в свое исполнение немалую долю пластичности и трагизма. Тощий, с испитым, изможденным лицом, он стоял на посыпанной гравием площадке в стороне от партнеров, сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, так что из-под нее выбился целый сноп рыжих волос, в позе задорной и дерзкой, и под струнный перебор выразительным речитативом бросал свои шутки вверх, на террасу, так что от творческого напряжения жилы вздувались у него на лбу. Совсем непохожий на венецианца, он скорее смахивал на неаполитанского уличного актера – полуграбитель, полукомедиант, задорный, дерзкий, опасный и занимательный. Песня, которой по содержанию была грош цена, в его устах благодаря выразительной мимике и телодвижениям, манере лукаво подмигивать и кончиком языка быстро касаться уголков рта становилась какой-то двусмысленной и предосудительной. Из отложного воротничка спортивной рубашки, надетой под обычное городское платье, торчала его тощая шея с большим, отталкивающе обнаженным кадыком. Бледная, курносая и безбородая физиономия, не позволявшая определить его возраст, вся была точно перепахана гримасами и пороком, а к ухмылке его подвижного рта как нельзя лучше подходили две складки, упрямо, властно, почти свирепо залегшие меж рыжих бровей. Но больше всего привлекло к скомороху внимание тосковавшего Ашенбаха то, что его подозрительную фигуру окружала, казалось, свойственная ему одному, столь же подозрительная атмосфера. Дело в том, что всякий раз во время рефрена, когда певец, кривляясь и приветствуя публику, начинал круговой обход, он оказывался в непосредственной близости от Ашенбаха, и всякий раз от него так и несло карболовым раствором.
Закончив куплет, он стал собирать деньги. Начал он с русских, которые щедро его вознаградили, и затем поднялся по ступенькам. Насколько дерзко он держался во время пения, настолько же смиренно вел себя здесь, наверху. Угодливо извиваясь, он ходил от столика к столику, обнажая в раболепно-коварной усмешке свои крупные зубы, хотя две складки меж рыжих бровей по-прежнему грозно прорезали его лоб. Это существо, собиравшее себе на пропитание, все разглядывали с любопытством, не чуждым отвращения, и кончиками пальцев бросали монеты в его протянутую шляпу, страшась к ней прикоснуться. Снятие физической дистанции между комедиантом и «чистой публикой», какое бы удовольствие он ей ни доставил, всегда порождает известную неловкость. Он это чувствовал и старался искупить свою вину сугубой приниженностью. Наконец он приблизился к Ашенбаху, и вместе с ним и запах, которого другие, видимо, просто не замечали.