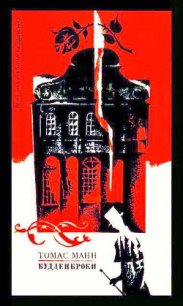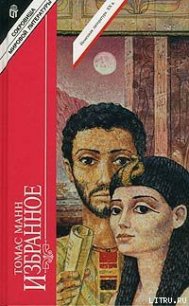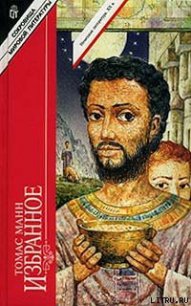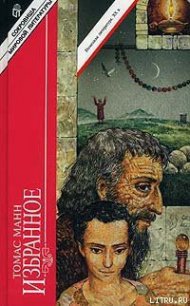Будденброки - Манн Томас (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
Его силы, душевные и физические, падали; крепло в нем только убеждение, что долго это продолжаться не может и конец уже не за горами. Странные предчувствия посещали его. Так, например, за столом ему вдруг начинало казаться, что он не сидит дома со своими, а смотрит на них из каких-то далеких, туманных сфер… «Я умру», — говорил он себе, и снова призывал Ганно, опять пытался воздействовать на него:
— Я могу умереть раньше, чем все мы полагаем, мой мальчик, и тебе придется занять мое место! Я тоже рано вступил в дело… Пойми же, что твое равнодушие мучит меня! Решился ты наконец?.. «Да, да» — это не ответ… Ты так и не даешь мне ответа! Я спрашиваю, решился ли ты взяться за работу смело, радостно… Или ты думаешь, что у нас достаточно денег и тебе можно будет ничего не делать? У тебя ничего нет или только самая малость, ты будешь полностью предоставлен сам себе! Если ты хочешь жить, и жить хорошо, тебе придется трудиться — трудиться много, напряженно, больше, чем трудился я…
Но не только забота о будущности сына и фирмы заставляла его страдать. Что-то другое, новое, нашло на него, завладело его душой, заставило работать его утомленный мозг. С тех пор как земной конец перестал быть для него отвлеченной, теоретической, а потому не приковывающей к себе внимания неизбежностью, а сделался чем-то совсем близким, ощутимым и требующим непосредственной, практической подготовки, Томас Будденброк начал задумываться, копаться в себе, испытывать свое отношение к смерти, к потустороннему миру. И едва сделав эту попытку, он постиг всю безнадежную незрелость и неподготовленность своей души к смерти.
Обрядовая вера, сентиментальное традиционное христианство — словом, то, что его отец умел так хорошо сочетать с практической деловитостью и что впоследствии усвоила его мать, — всегда было чуждо Томасу Будденброку; к началу и концу вещей он всю жизнь относился со светским скептицизмом своего деда. Но, будучи человеком более глубоких запросов, более гибкого ума и тяготея к метафизике, он не мог удовлетворяться поверхностным жизнелюбием старого Иоганна Будденброка; вопросы вечности и бессмертия он понимал исторически, говоря себе, что жил в предках и будет жить в потомках. Эта мысль не только согласовалась с его родовым инстинктом, с патрицианским самосознанием, с уважением к истории семьи, но и давала ему силу для его деятельности, подстегивала его честолюбие и подкрепляла, поддерживала его во всех жизненных начинаниях. А теперь, перед всевидящим оком близкой смерти, она вдруг рухнула, рассыпалась в прах, не способная даровать ему хотя бы час покоя и сознания готовности к смерти.
Хотя Томас Будденброк всю жизнь кокетничал своей склонностью к католицизму, в нем жило серьезное, глубокое, суровое до самоистязания, неумолимое чувство долга, отличающее истинного, убежденного протестанта. Нет, перед лицом высшего и последнего не существовало никакой помощи извне, никакого посредничества, отпущения грехов и утешительного забвения. В одиночестве, только собственными силами, в поте лица своего, пока не поздно, надо разрешить загадку, достичь полной готовности к смерти или уйти из этого мира в отчаянии. И Томас Будденброк разочарованно и безнадежно отвернулся от своего единственного сына, в котором надеялся жить дальше, омоложенный, сильный, и в торопливом страхе начал искать правды, которая ведь должна была где-то существовать для него.
Стояло лето 1874 года. Серебристо-белые пухлые облачка проплывали в синеве над симметрично разбитым садом на Фишергрубе; в ветвях орешника, словно вопрошая о чем-то, чирикали птицы; струи фонтана плескались в венке посаженных вкруг него высоких лиловых ирисов, и запах сирени, увы, мешался с запахом сладкого сиропа, который теплый ветерок доносил с соседней кондитерской фабрики. К вящему изумлению служащих, сенатор теперь часто уходил из конторы в разгар рабочего дня и, заложив руки за спину, отправлялся в сад — там он разравнивал гравий на дорожках, выуживал тину из фонтана, подвязывал розовые кусты… Лицо его со светлыми бровями, из которых одна была чуть выше другой, за этими занятиями становилось серьезным, внимательным, но его мысли блуждали где-то во мраке, по трудным, ему одному ведомым тропам.
Иногда он присаживался на балкончике павильона, сплошь увитого диким виноградом, и невидящим взглядом смотрел на заднюю кирпичную стену своего дома. Теплый воздух, напоенный сладкими запахами, мирные шорохи вокруг, казалось, хотели умягчить, убаюкать его. Усталый от созерцания пустоты, измученный одиночеством и молчанием, он временами закрывал глаза, чтобы тут же вновь широко раскрыть их, гоня от себя умиротворение. «Я должен думать, — почти вслух произносил он, — должен все упорядочить, пока не поздно…»
Здесь, в этом павильоне, в легкой бамбуковой качалке, он просидел однажды четыре часа кряду, с всевозрастающим интересом читая книгу, попавшуюся ему в руки, трудно даже сказать, в результате сознательных поисков или случайно… Как-то раз, в курительной комнате, после завтрака, с папироской в зубах, он обнаружил эту книгу в дальнем углу шкафа, засунутой за другие книги, и тут же вспомнил, что уже давно приобрел ее по сходной цене у букиниста… приобрел и забыл о ней; это был объемистый том, плохо отпечатанный на тонкой желтоватой бумаге и плохо сброшюрованный, — вторая часть прославленной метафизической системы [134]. Он взял книгу с собою в сад и теперь, как зачарованный, перевертывал страницу за страницей.
Неведомое чувство радости, великой и благодарной, овладело им. Он испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение, узнавая, как этот мощный ум покорил себе жизнь, властную, злую, насмешливую жизнь, — покорил, чтобы осудить. Это было удовлетворение страдальца, до сих пор стыдливо, как человек с нечистой совестью, скрывавшего свои страдания перед лицом холодной жестокости жизни, страдальца, который из рук великого мудреца внезапно получил торжественно обоснованное право страдать в этом мире — в лучшем из миров, или, вернее, худшем, как неоспоримо и ядовито доказывалось в этой книге.
Он не все понимал: принципы и предпосылки оставались для него неясными. Его ум, непривычный к такого рода чтению, временами не мог следовать за всеми ходами мысли. Но как раз от этой смены света и тени, тупого непонимания, смутных чаяний и внезапных прозрений у него и захватывало дыхание. Часы летели, а он не отрывал глаз от книги, продолжая сидеть все в том же положении, в котором раскрыл ее.
Поначалу он пропускал целые страницы, торопясь вперед, бессознательно алча добраться до главного, до самого важного, задерживаясь только на том, что сразу приковывало его внимание. Но вскоре ему попалась целая глава, которую он, плотно сжав губы и насупив брови, прочитал от первого до последнего слова, не замечая ни единого проявления жизни вокруг, с выражением почти мертвенной суровости на лице — ибо эта глава называлась «О смерти и ее отношении к нерушимости нашего существа в себе» [135].
Он не успел дочитать только нескольких строк, когда горничная пришла звать его к столу. Томас Будденброк кивнул, дочитал до конца, закрыл книгу и осмотрелся вокруг. Он почувствовал, что душа его необъятно расширилась, поддалась тяжелому, смутному опьянению, мозг затуманился. Его почти шатало от того непостижимо нового, влекущего, искусительного, что нахлынуло на него, словно первая, манящая вдаль любовная тоска. Но когда он холодными, дрожащими руками стал класть книгу в ящик садового столика, его пылающий мозг, не способный ни на одну четкую мысль, был так придавлен чем-то, так страшно напряжен, словно вот-вот что-то должно было лопнуть в нем.
«Что это было? — спрашивал он себя, идя к дому, поднимаясь по лестнице, садясь за стол. — Что со мной произошло? Что мне открылось? Что было возвещено мне, Томасу Будденброку, сенатору этого города, шефу хлеботорговой фирмы „Иоганн Будденброк“?.. Ко мне ли это относилось? И смогу ли я это вынести? Я не знаю, что это было… Знаю только», что для моих бюргерских мозгов это чрезмерно много».
134
…вторая часть прославленной метафизической системы. — Речь идет об учении Артура Шопенгауэра (1788—1860), немецкого философа-идеалиста, изложенном в его книге «Мир как воля и представление» (1818).
135
«О смерти и ее отношении к нерушимости нашего существа в себе» — Глава из книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление».