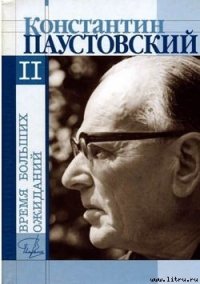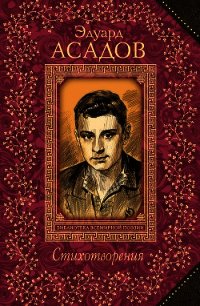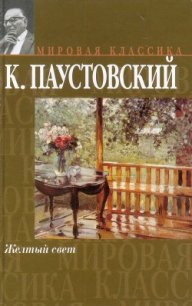Романтики - Паустовский Константин Георгиевич (читать книги без регистрации .TXT) 📗
– Четыре часа, и проваливай к дьяволу!
Я шел по мосту. Настил дрожал. Ночь подернулась тусклой синевой, стал угадываться залив. Должно быть, светало. Вега пылала ярким огнем, и ватными шарами догорали фонари на молах.
Я остановился на мосту, сжал мокрые перила и позвал в ночь, в ветер и море: «Хатидже!» Запел первый пароходный гудок, охрипший от сна. Я поднял голову, и горький ветер обдул воспаленное лицо.
Я снова заблудился. Что за дьявольщина! Море шумело то справа, то слева. Тот же пьяный моряк шел сзади, спотыкался и кричал:
– Четыре часа – детское время. Выпьем английской горькой, братишка. Я капитан Шевченко с «Трувора», чтоб мне домой не дойти.
Я пошел с ним в ночной трактир и пил английскую водку. Утро шумело за окнами. Порт густо дымил. Приходили корабли из Ливерпуля и уходили в Трапезунд. Радость спала на душе, свернувшись теплым пушистым котенком, горланили матросы, и жизнь звенела, как лед у причалов.
Капитан рассказал много занятных историй, но я их не помню. Запомнилась только замечательная брань, синева и крепчайшая английская водка.
Капитан пел, засыпая:
Я пришел домой утром. На душе было чисто, будто я омыл ее водой со снегом.
В комнате было холодно.
Темными лапами висели за окнами ветки акаций.
Внизу на старых часах пробило пять. Пять медленных разбитых ударов.
Тихо кружилась голова.
– Отчего это так хорошо, отчего? – спрашивал я едва слышно. Мне жутко вспомнить все до конца.
Я снова выхожу. Я иду по бульвару. Легкой водяной пылью ложится туман на влажную землю. Листья истлели, их не отличишь от земли. Медленно вырастают тени – это женщины несут на рынок корзины с овощами.
Я закурил. Около спуска ночной сторож попросил папиросу. Спичка загорелась в сыром воздухе мутным оранжевым ореолом. У сторожа было красное мокрое лицо и обвисшие усы.
Я купил коробку папирос у мальчишки в дырявой кацавейке и дал ему золотой. Это были мои последние деньги. Я думал о прекрасных книгах, о тысяче услуг, которые я готов сделать всем, каждому, ради этой поверившей в меня девушки.
«Хатидже», – медленно подумал я и закрыл глаза, уже скованные сном. Я вернулся в номер. Солнце горело на спущенных шторах. Крепкий сон быстро согрел меня. Чем-то громадным было пронизано все это молчаливое утро.
Винклер
Неожиданно приехал Винклер. Он осунулся, па щеках появились черные впадины. Рассказывал, что Алексей пьянствует и много пишет в газетах.
Днем мы пошли в Приморский сад. Гравий трещал под ногами, наши следы наливались водой.
– Люблю я море, – сказал Винклер, остановившись на берегу. Волны шумели у каменных ступеней, покрывали их пеной и водорослями. – Даже таким люблю, мертвым, свинцовым.
Дождь постукивал по скамейкам, по деревянным перилам террасы. Мокрые воробьи прятались в кустах, черные, изъеденные холодом клумбы блестели от влаги. Мы сели в обветшалой беседке. Сморщенный дикий виноград висел у белых колонн.
– Хандра у меня, – сказал Винклер и посмотрел на море. – Дрянная хандра, будто бы целый месяц я ночевал в кабаках и надышался блевотиной. Все время сверлит в голове, как штопором. И болит затылок.
Я промолчал.
– Дурацкий ум, – сказал он, раздражаясь, и оборвал черный стебель винограда. – Я смотрю на все и осуждаю, как прокурор. Мне все не нравится. По утрам я встаю и тотчас же наливаюсь ненавистью. Мне скучно. На днях была такая история. Ты знаешь Федора? Он недавно пришел ко мне – у него заболел мальчик. Если бы ты его видел, этого мальчика. Ему два года, он очень веселый. Голова у него вся в золотом пуху.
– Да, так вот, – сказал Винклер и вздрогнул, как будто ледяная капля попала ему за шиворот. – Да, так вот – третьего дня этот мальчик умер от воспаления легких. В комнате было очень холодно, не было денег на дрова. Он всю ночь дрожал, а утром, когда было уже поздно, Федор прибежал ко мне. Я отдал все деньги, я бросился к Алексею, Алексей пошел в редакцию и обобрал Днестропуло – но было поздно. Мы метались, звали докторов, я даже молился первый раз в жизни. Алексей матерился и проклинал всех и все. Как-то вдруг мы поняли, что этот мальчик дороже всего на свете, что его воробьиная душа выше всего, чем мы жили. Тогда я понял такие простые вещи, как материнство и смерть. Понял, какая бездна печали заложена в этом дурацком человеческом сердце.
Он умер, а я всю ночь просидел в портовом притоне, слушал и смотрел, как матросы мучают женщин. Я был пьян. Я сидел за столом и говорил немке-бандерше о том, как пахнут волосы у маленьких детей. Бандерша позвала парня с простуженной шеей – голова у него была скривлена – и сказала:
– Выкинь эту заразу.
Я разбил в кровь прыщеватую рожу парня. Поранил бутылкой бандершу. За меня вступились матросы. Полиция опоздала. Девицы визжали и цеплялись за руки. Бандерша рвала волосы, как на еврейских похоронах, а мне казалось, что я кому-то обдуманно и жестоко мщу. Дома я развел черную краску и измазал все свои картины. Что это за идиотское занятие вообще – писать картины. Все стало пресным, ничего я не вижу впереди. Потом вот приехал сюда.
Зеленые волны пенились в дожде и брызгали в лицо соленой пылью. Я сказал:
– Нужна большая сила. Она есть у каждого. Я узнал ее недавно. Она все решит.
– Какая сила?
– Простое слово, Винклер. Любовь.
Винклер посмотрел на море зорко и напряженно, будто бы что-то искал. Дождь прошел.
– Да… – сказал он и резко повернулся ко мне. – Да… Ну что ж, посмотрим.
Вечером мы зашли к Хатидже.
Мы сидели втроем на диване и болтали. С Винклера сошла его обычная угрюмость. В столовой тихо стучали часы, на столе у Хатидже лежали французские книги и журналы. Пришел маленький котенок, влез на диван. Я гладил его, Хатидже перебирала мои пальцы, положив руку сверху, смеялась, говорила с Винклером, и глаза ее сияли. Котенок лизал мою ладонь, потом свернулся и замурлыкал. Хатидже задумалась.
Когда мы уходили, Винклер остановился около деревянной калитки и сказал:
– Дай-ка твою руку.