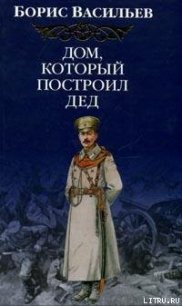Завтра была война… - Васильев Борис Львович (книги читать бесплатно без регистрации полные txt) 📗
— Даже если он сознался в нем? — спросила Вика.
— Даже когда он в этом клянется. Человек — очень сложное существо и подчас готов со всей искренностью брать на себя чужую вину. По слабости характера или, наоборот, по его силе, по стечению обстоятельств, из желания личным признанием облегчить наказание, а то и отвести глаза суда от более тяжкого преступления. Впрочем, извините меня, девочки, я, кажется, увлекся. А мне пора.
— Поздно вернешься? — привычно спросила Вика.
— Ты уже будешь видеть сны.-Леонид Сергеевич встал, аккуратно задвинул стул, поклонился Искре, озорно подмигнул дочери и вышел.
Искра возвращалась, старательно обдумывая и разговор о мещанстве и — особенно — о презумпции невиновности. Ей очень нравилось само название «презумпция невиновности», и она была согласна с Леонидом Сергеевичем, что это и есть основа справедливого отношения к человеку. И еще жалела, что не напомнила Вике о таинственном писателе с иностранной фамилией Грин.
Ожидаемого и столь необходимого разговора по душам не произошло: признание Вики, что она не любит ее, не просто огорчило, а уязвило Искорку. И дело здесь было не только в самолюбии (хотя и в нем тоже), дело заключалось в том, что сама Искра очень тянулась к Вике, чувствуя в ней умную и тонкую девушку. Тянулась к хорошим книгам и разговорам, к уюту большой квартиры, к удобному, налаженному быту, хотя, если б ей сказали об этом, она бы яростно, до гневных слез отрицала эту слабость. Но больше всего она тянулась к отцу Вики, к Леониду Сергеевичу Люберецкому, потому что у самой Искры отца не было и в ее представлении Люберецкий был идеальнейшим из всех возможных отцов, которого, правда, надо было немножко перевоспитать. И Искра непременно бы его перевоспитала, если бы… Но никакого «если бы» не могло быть, а пустыми мечтаниями Искорка не занималась. И ей было немножко грустно.
Дома Искру ждали стакан молока, кусок хлеба и записка. Мама писала, что проводит ответственное заседание, придет поздно и что дочери следует лечь спать вовремя и не читать в постели романов: последнее слово было подчеркнуто. Искра поделилась ужином с соседской кошкой, проверила, все ли уроки сделаны, и решила вдруг написать статью для очередного номера школьной стенгазеты.
Она писала о доверии к человеку, пусть даже маленькому, пусть даже к первоклашке. О вере в этого человека, о том, как окрыляет эта вера, какие чудеса может сделать человек, уверовавший, что в него верят. Она вспомнила — очень кстати, как ей показалось, — Макаренко, когда он доверил Карабанову деньги, и каким замечательным парнем стал потом Карабанов. Она разъяснила, что такое «презумпция невиновности». Перечитав и кое-что поправив, начисто переписала и положила на мамин стол: она всегда согласовывала с мамой свои статьи. Потом постелила постель, погасила свет — последнее время она почему-то стала стесняться раздеваться при свете, — надела ночную рубашку, снова зажгла лампу и юркнула под одеяло. Достала припрятанного Дос Пассоса и стала читать, настороженно прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь.
То ли оттого, что приходилось прислушиваться, то ли оттого, что мысли о виновности и невиновности, о доверии и недоверии не вылезали из головы, то ли потому, что тело, освобожденное от пояска и лифчика, жило особой раскрепощенной жизнью, то ли от всех причин разом читать она долго не смогла. .Заботливо спрятав книжку, легла на бок, подсунув под щеку ладошку и тотчас же уснула.
Ей показалось, что разбудили ее мгновенно, только-только начался сон. Открыла глаза: над нею стояла мама.
— Надень халат и выйди ко мне.
Искра вышла, позевывая, теплая и розовая ото сна.
— Что это такое?
— Это? Это статья в стенгазету.
— Кто тебя надоумил писать ее?
— Никто.
— Искра, не ври, я устала, — тихо сказала мать, хотя прекрасно знала, что Искра никогда не врала даже во спасение от солдатского ремня.
— Я не вру, я написала сама. Я даже не знала, что напишу ее. Просто села и написала. По-моему, я хорошо написала, правда?
Мать не стала вдаваться в качество работы. Пронзительно глянула, прикурила, энергично ломая спички.
— Кто рассказал тебе об этом?
— Леонид Сергеевич Люберецкий.
— Рефлексирующий интеллигент! — Мать коротко рассмеялась. — Что он еще тебе наговорил?
— Ничего. То есть говорил, конечно. О справедливости, о том, что…
— Так вот. — Мать резко повернулась, глаза сверкнули знакомым холодным огнем. — Статьи ты не писала и писать не будешь. Никогда.
— Но ведь это несправедливо…
— Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо, запомни!
— А как же человек? Человек вообще?
— А человека вообще нет. Нет! Есть гражданин, обязанный верить. Верить!
Отвернулась, нервно зачиркала спичкой о коробок, не замечая, что вовсю дымит зажатой в зубах папиросой.
Глава пятая
Зиночке снилось, что ее целует взрослый мужчина. Это было жутко, прекрасно, но не страшно, потому что где-то находилась мама; Зина знала, что она близко и можно позвать на помощь, и — не звала. Сон кончился, а с ним кончились и поцелуи, и Зина крепко зажмурилась, чтобы ее поцеловали еще хотя бы разочек.
Проснуться все же пришлось. Не открывая глаз, она ногами отбросила одеяло, дождалась, пока чуточку остынет, и села. И сразу увидела ужасную вещь: вместо летних трусиков, так ловко охватывающих тело, на стуле лежали противные трикотажные штанищи длиною аж до коленок. И весь сон, вся радость утра и вся прелесть нового дня пропали разом. Схватив штанишки, Зина в одной рубашке ринулась на кухню.
— Мама, что это такое? Ну, что это такое? Родители завтракали, и она осталась за дверью, просунув на кухню голову и руку.
— Первое октября, — спокойно сказала мама. — Пора носить теплое белье.
— Но я уже не маленькая, кажется!
— Ты не маленькая, но это только так кажется.
— Ну почему, почему мне такое мученье! — с отчаянием воскликнула дочь.
— Потому что ты садишься где попало и можешь застудиться.
— Не бунтуй, Зинаида, — улыбнулся отец. — Мы не в Африке, надевай, что климатом положено.
— Это мамой положено, а не климатом! — закричала Зиночка. — Все девочки, как девочки, а я у вас как уродина.
— Сейчас ты и вправду уродина. Немытая, нечесаная и неодетая.
Горестно всхлипнув, Зина убежала. Мать с отцом посмотрели друг на друга и улыбнулись.
— Растет наша девочка, — сказала мать.
— Невеста! — добавил отец.
Они любили свою младшую больше остальных, старательно скрывали это и воспитывали дочь в строгости. Зина до сих пор ложилась спать в половине одиннадцатого, не появлялась в кино на последних сеансах, а в театрах бывала только на дневных спектаклях. Этот регламент (куда входили и злосчастные зимние штанишки) никогда очень-то не угнетал ее, но в последнее время она все чаще начинала скандалить. Скандалы, правда, зримых результатов не давали, но мать с отцом улыбались уже особо, с гордостью замечая, как взрослеет дочь. Семья была дружная, а после выхода старших замуж сплотилась еще больше. Все обсуждалось и решалось сообща, но, как это часто бывает в русских семьях, мать незаметно, без видимых усилий и демонстративного подчеркивания, держала вожжи в своих руках.
— Никогда не обижай мужа, девочка. Мужчины очень самолюбивы и болезненно переживают, когда ими командуют. Всегда надо быть ровной, ласковой и приветливой, не отказывать в пустяках и стараться поступать так, будто ты выполняешь его желания. Наша власть в нежности.
Мама неторопливо и осторожно готовила Зину к будущей семейной жизни. Зина знала многое из того, что надо было бы знать всем девочкам, и спокойно восприняла переход от детства к девичеству, не испытав свойственного многим потрясения.
Отец в воспитание не вмешивался. Он работал мастером на заводе вместе с отцом и братьями Артема, состоял членом завкома, вел кружок по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и вообще был по горло занят. В редкие свободные часы он толковал с дочерью о международных проблемах. Зиночка слушала очень вежливо, помня о маминых словах, что мужчины болезненно самолюбивы, но все пропускала мимо розовых ушей.