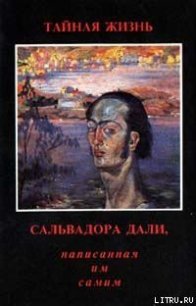Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Книга 2 - Диккенс Чарльз (книги онлайн бесплатно txt) 📗
Я начал подумывать, не объясниться ли мне сегодня.
– Да, для нее это длинный путь, потому что ее ничто не поддерживало во время нашей поездки, – сказал я.
– А разве ее, бедняжку, не покормили? – спросила Дора.
Я начал подумывать, не отложить ли объяснение на завтра.
– Н-нет… О ней позаботились как следует… Я хотел сказать, что, находясь около вас, она не наслаждалась тем невыразимым счастьем, каким наслаждался я.
Дора склонила голову над своим рисунком, – я пылал как в лихорадке, а ноги у меня одеревенели, – и сказала:
– Вы как будто не все время наслаждались этим счастьем.
Тут я понял, что жребий брошен и объясниться надо немедленно.
– По крайней мере вы совсем не думали об этом счастье, когда сидели около мисс Китт, – сказала Дора, подняв брови и тряхнув головкой.
Должен заметить, что мисс Китт звали юное создание в розовом, с маленькими глазками.
– Я, собственно говоря, не понимаю, почему вы должны были наслаждаться и почему вообще вы называете это счастьем. Нет, вы не думаете того, что говорите. Но, конечно, вы совершенно свободны и можете поступать, как вам угодно. Джип! Вот несносный! Сюда!
Не знаю, как я это сделал, но я сделал это в один миг. Я опередил Джипа. Я заключил Дору в объятия. Я был безумно красноречив. Недостатка в словах у меня не было. Я сказал, как я ее люблю. Я сказал, что без нее умру. Я сказал ей, что обожаю ее и преклоняюсь перед ней. Джип все время тявкал как сумасшедший.
Когда Дора склонила головку, затрепетала и разразилась слезами, красноречие мое еще усилилось. Если она хочет, чтобы я умер ради нее, ей стоит сказать одно только слово, и я готов умереть! Жизнь без Доры – вещь нестоящая ни при каких условиях, и я не могу ее выносить и не вынесу. С той поры как я ее увидел, ни днем ни ночью не было минуты, когда бы я ее не любил! Я люблю ее и в эту минуту до безумия. И в каждую минуту моей жизни буду любить ее до безумия. Влюбленные любили и до меня, влюбленные будут любить и после меня, но ни один влюбленный никогда не любил, не мог любить, не может любить и не будет любить так, как я люблю Дору! Чем больше я неистовствовал, тем громче тявкал Джип. С каждым мигом мы оба, каждый по-своему, все больше сходили с ума.
Но вот немного погодя мы сидим – Дора и я, – уже немного успокоившись, на софе, и Джип лежит у нее на коленях и миролюбиво на меня поглядывает. Теперь на сердце у меня легко. Я в полном восторге. Мы с Дорой помолвлены.
Мне кажется, мы смутно представляли себе, что помолвка должна завершиться браком. Вероятно, это было так, раз Дора объявила, что она никогда не выйдет замуж без разрешения папы. Но не думаю, чтобы мы, в юношеском экстазе, заглядывали вперед, смотрели назад или стремились к чему-то, что выходило бы за пределы настоящего. Мы должны были скрывать нашу тайну от мистера Спенлоу, но, конечно, мне и в голову не приходило, что в этом есть нечто неблаговидное.
Когда Дора, которая пошла за мисс Миллс, привела ее к нам, та казалась еще более задумчивой, чем обычно, ибо опасаюсь, это событие разбудило уснувшее эхо в пещерах Памяти. Но она дала нам свое благословение, заверяла в вечной дружбе и вообще говорила с нами, как подобает Гласу, исходящему из Монастыря.
Какое это было безмятежное время! Какое счастливое, бездумное, безрассудное время!
То время, когда я снял мерку с пальчика Доры, чтобы заказать колечко из незабудок, а ювелир, которому я вручил мерку, догадался обо всем, и смеялся, склонившись над книгой заказов, и запросил с меня сколько вздумалось за хорошенькую безделушку с голубыми камешками, которая так связана в моей памяти с ручкой Доры, что вчера, случайно увидев похожее колечко на пальце моей дочери, я почувствовал, как у меня защемило сердце!
То время, когда я гулял, взволнованный своей тайной, преисполненный сознанием собственной значительности, и почитал такой честью любить Дору и быть ею любимым, что если бы я парил в воздухе, то и тогда не мог бы чувствовать себя выше людей, ползавших где-то там по земле!
То время, когда мы встречались в саду на площади и сидели в закоптелой беседке такие счастливые, что и посейчас я люблю только за это лондонских воробьев и их тусклые перья кажутся мне оперением тропических птиц!
То время, когда мы впервые сильно поссорились (после нашей помолвки не прошло еще и недели) и Дора отослала мне назад колечко, вложив его в сложенную треугольником записку, которая содержала ужасную фразу: «Наша любовь началась с глупости и кончилась сумасшествием», и от этих ужасных слов я рвал на себе волосы и вопил, что все кончено!
То время, когда под покровом ночи я помчался к мисс Миллс, которую я повидал украдкой в комнатке за кухней, где стоял каток для белья, и умолял мисс Миллс стать посредницей между нами и спасти нас от нашего безумия и когда мисс Миллс исполнила мою просьбу и вернулась с Дорой и увещевала нас с трибуны своей разбитой молодости уступать друг другу и избегать пустыни Сахары!
То время, когда мы оба рыдали и помирились и снова были счастливы так, что комнатка за кухней с ее катком для белья и всем прочим превратилась в храм любви, и мы решили вести переписку через мисс Миллс, посылая хотя бы по одному письму ежедневно!
Какое это было безмятежное время! Какое это было счастливое, бездумное, безрассудное время! Время держит в своей деснице все дни моей жизни, и нет среди них ни одного, о котором я мог бы вспоминать с такой же улыбкой и такой же нежностью, как об этих днях!
Глава XXXIV
Бабушка приводит меня в изумление
Как только мы с Дорой были помолвлены, я написал Агнес. Я написал ей длинное письмо, в котором пытался дать ей понять, в каком блаженстве я утопаю и что за прелесть Дора. Я умолял Агнес не рассматривать мою любовь как легкомысленную влюбленность, всегда мимолетную или напоминающую одно из тех детских увлечений, над которыми мы с нею обычно смеялись. Я убеждал ее, что глубина этой любви поистине неизмерима, и выражал полную уверенность, что такой любви свет еще не видел.
И вот, когда я писал Агнес, сидя у открытого окна в чудесный вечер, и вспомнил ее ясные, спокойные глаза и кроткое лицо, при этом воспоминании такой мир и покой снизошли на мою смятенную и взволнованную душу, – а в этих треволнениях я жил последнее время и с ними отчасти было связано мое счастье, – что я расплакался. Помнится, я сидел над неоконченным письмом, подперев голову рукой, и мечтал о том, как бы это было хорошо, если бы Агнес была причастна к радостям моего домашнего очага. Мне казалось, что под сенью дома, ставшего для меня священным благодаря присутствию Агнес, мы с Дорой будем счастливы больше, чем где бы то ни было. И казалось мне, что в любви, в радости и печали, в надежде и разочаровании – словом, во власти любого чувства – сердце мое невольно обращается к ней и там находит свое пристанище и лучшего друга.
О Стирфорте я не упомянул. Я написал только, что в Ярмуте случилось большое горе, что Эмили исчезла, а мне ее исчезновение нанесло двойную рану, принимая во внимание обстоятельства, его сопровождавшие. Я знал, как быстро она всегда угадывает правду, и знал я также, что она никогда первая не упомянет его имя.
На это письмо я получил ответ с обратной почтой. Читая его, я словно слышал голос Агнес. Да, это был ее нежный голос! Что могу я еще к этому добавить?
Во время моих последних отлучек из дому Трэдлс заходил раза два-три. Он застал Пегготи, которая ему сообщила, что она моя старая няня (о чем она сообщала решительно всем, кто хотел ее слушать), и он, завязав с ней добрые отношения, оставался поболтать обо мне. Так рассказала мне Пегготи, но боюсь, что болтал не он, а она, да притом весьма много, ибо ей – да благословит ее бог! – бывало трудненько остановиться, когда речь заходила обо мне.
Тут я припоминаю не только о том, что ждал визита Трэдлса в назначенный им день, – а этот день настал, – но и об отказе миссис Крапп от всех обязанностей, связанных с ее службой (но отнюдь не от жалованья), если Пегготи будет у меня бывать. После того как миссис Крапп, ведя на лестнице беседу, – очевидно, с каким-то невидимым духом, ибо по всем признакам, кроме нее, там никого не было, – визгливо поделилась с ним своим мнением о Пегготи, она прислала мне письмо, в котором излагались ее взгляды. Начав с заявления, которое у нее было наготове во всех случаях ее жизни, а именно – что она «тоже мать», она уведомляла меня о том, что знавала и лучшие времена, но во все периоды своей жизни питала врожденное отвращение к шпионам, доносчикам и незваным гостям. Имен она не называет, писала она, но на воре и шапка горит, и особенно она презирает шпионов, доносчиков и незваных гостей, носящих вдовий траур (эти слова были подчеркнуты). Если джентльмен предпочитает быть жертвой шпионов, доносчиков и незваных гостей (имен она не называет), это его личное дело. Он имеет право поступать, как ему нравится, ну что ж, пусть поступает! Но она, миссис Крапп, выговаривает себе право не «иметь прикосновения» к таким особам. Поэтому она просит освободить ее от присмотра за помещением на верхнем этаже, покуда все не будет так, как было раньше и как было бы желательно. Далее она добавляла, что ее расходную книжку можно найти каждую субботу утром на маленьком столике, и просила производить подсчет расходов немедленно с единственной благодетельной целью избежать раздоров, «неприятных» для обеих сторон.