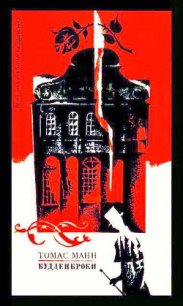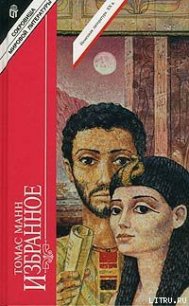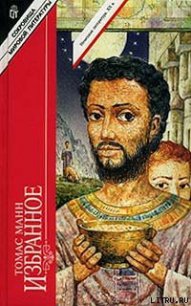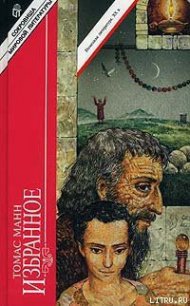Будденброки - Манн Томас (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
А затем счастье стало явью. Оно снизошло на него во всей своей святости, со всеми восторгами, с тайным испугом и трепетом, с внезапно стесняющими горло рыданиями, дурманящее, неисчерпаемое… Правда, дешевенькие скрипки оркестрантов слегка сфальшивили в увертюре, а челн, в котором стоял толстый, чванливый на вид человек с окладистой светлой бородой, выплыл из-за кулис какими-то рывками… Кроме того, в соседней ложе оказался опекун Ганно, г-н Стефан Кистенмакер; он ворчливо буркнул, что нечего мальчика отвлекать от его обязанностей такими развлечениями! Ах, не все ли равно: сладостное, просветленное великолепие, которому внимал Ганно, возносило его над всеми этими мелочами.
Но все-таки конец наступил. Певучее, мерцающее счастье смолкло, потухло. С пылающим лицом вернулся Ганно в свою комнату… и вдруг понял, что лишь несколько часов сна отделяют его от серых будней. Он опять, как это часто с ним случалось, совершенно пал духом. Снова почувствовал, как больно ранит красота, в какие бездны стыда и страстного отчаяния повергает она человека, без остатка пожирая его мужество, его пригодность к обыденной жизни. И такой безнадежностью, таким тяжким камнем легло на него это сознание, что ему вновь подумалось: нет, не одни только личные горести пригибают его к земле; тяжкое бремя с первых дней жизни гнетет его душу и когда-нибудь совсем придавит ее.
Потом он завел будильник и уснул глубоким, мертвенным сном, каким спит тот, кто хотел бы никогда не просыпаться. И вот уже понедельник, вот уже шесть часов, а он ни одного урока не приготовил!
Ганно приподнялся и зажег свечу на ночном столике. Но так как руки и плечи у него тотчас же застыли от холода, откинулся назад и снова натянул на себя одеяло.
Стрелки показывали десять минут седьмого. Ах, теперь уж бессмысленно вставать и приниматься за уроки! Все равно их слишком много — ведь задано по каждому предмету. Не стоит начинать, да и времени остается мало… А потом, разве уж так обязательно, как ему казалось вчера, что его вызовут по латыни и по химии? Возможно, конечно… даже скорей всего вызовут. По Овидию в последний раз спрашивали тех, чьи фамилии начинаются с последних букв алфавита, и очень вероятно, что сегодня опять начнут с «А» и «Б»! Но только вероятно, а не наверняка! Бывают же исключения из правила! Чего-чего только иногда не делает случай!.. И покуда он утешал себя этими призрачными, за волосы притянутыми домыслами, мысли его спутались, и он снова уснул.
Неровный свет свечи озарял тишину маленькой холодной и неуютной комнаты, с гравюрой Сикстинской мадонны над кроватью, с раздвижным столом посередине, с беспорядочно набитым книгами шкафом, неуклюжим пюпитром красного дерева, фисгармонией и небольшим умывальником. Ледяные цветы расцвели на окнах с неспущенными шторами — чтобы свет пораньше проник в комнату. Ганно Будденброк спал, прижавшись щекой к подушке. Спал, полуоткрыв рот, плотно сомкнув ресницы, с болезненной и беззаветной страстностью предавшись сну, и шелковистые русые волосы завитками спадали на его виски. Огонек на ночном столике медленно, медленно терял свою красно-желтую яркость, так как в комнату через обледенелые стекла уже начинал струиться блеклый, унылый свет зимнего утра.
В семь Ганно опять проснулся в испуге. Миновал и этот срок. Надо вставать, надо взвалить на себя ношу дня — этого уже ничем не отвратишь. Еще один только час до начала занятий… Время бежит неудержимо, об уроках уже нечего и думать. И все-таки он еще полежал, с болью и горечью в душе, оскорбленный грубой необходимостью в холодной полутьме вылезать из теплой постели и спешить к суровым, недоброжелательным людям, навстречу беде и опасности. «Ах, еще две, только две минуты! Идет?» — с нежностью шепнул он в подушку. И в порыве упрямства подарил себе еще целых пять. Он снова закрыл глаза, чтобы тут же открыть их, с отчаянием глядя на стрелку часов, тупо, неосмысленно и добросовестно проделывавшую положенный ей путь…
В десять минут восьмого он вскочил и засуетился. Свеча продолжала гореть, так как дневного света было еще недостаточно. Растопив дыханьем один из ледяных цветков на стекле, Ганно увидел сплошной туман за окном.
Он страшно мерз. Минутами все его тело дрожало от холода. Кончики пальцев у него горели и так распухли, что щеточкой для ногтей к ним нельзя было притронуться. Когда, обнаженный по пояс, он начал мыться, губка выпала у него из рук, и он простоял несколько секунд в оцепенении, дыша, как запаренная лошадь.
Задыхающийся, измученный, он все-таки подбежал, наконец, к столу, схватил сумку для книг и, собрав остатки душевных сил, принялся отбирать нужные на сегодня учебники. Он останавливался, смотрел в пространство, боязливо бормотал: «Закон божий, латынь, химия», и запихивал в сумку потрепанные, вымазанные чернилами книги в картонных переплетах…
Маленький Иоганн очень вытянулся в последнее время. Ему шел уже шестнадцатый год, и носил он теперь не матросскую курточку, а светло-коричневый костюм и синий галстук в белую крапинку. По его жилету вилась тонкая золотая цепочка, вместе с часами доставшаяся ему от прадеда, а на безымянном пальце несколько широковатой, но изящной руки красовался фамильный перстень с изумрудной печаткой, тоже перешедший к нему… Он надел плотную шерстяную куртку, нахлобучил шляпу, схватил сумку с книгами, потушил свечу и ринулся вниз по лестнице, мимо чучела медведя, в столовую.
Мамзель Клементина, новая домоправительница его матери, сухопарая девица с завитками на лбу, остроносая и близорукая, была уже там и хлопотала у стола.
— Который час? — сквозь зубы спросил Ганно, хотя это было ему отлично известно.
— Без четверти восемь, — отвечала она, указывая худой, красной и явно подагрической рукой на циферблат стенных часов. — Вам надо поторапливаться, Ганно. — С этими словами она придвинула к нему чашку дымящегося какао, хлебницу, солонку и рюмку для яйца.
Не отвечая ей, даже не садясь, в шляпе, с сумкой под мышкой, он начал глотать какао. От горячего мучительно заныл зуб, над которым на прошлой неделе трудился г-н Брехт. Ганно оставил чашку недопитой, отказался от яйца, скривив губы, буркнул что-то вроде «до свиданья» и выбежал на улицу.
Было уже без десяти восемь, когда он, оставив позади маленькую красную виллу с палисадником, свернул в заснеженную аллею… Остается десять минут, девять, уже только восемь! А путь не близкий, и туман такой, что и не поймешь, где находишься! Он вдохнул во всю мочь своей узкой груди этот плотный, холодный туман и тут же выдохнул его, потрогал языком зуб, все еще нывший от какао, и постарался сообщить небывалую прыть своим ногам. Он обливался потом и в то же время всем телом дрожал от холода. В боку у него закололо. Скудный завтрак взбунтовался в желудке от такой утренней пробежки, к горлу подступала тошнота, а сердце, которое сейчас казалось ему каким-то посторонним предметом, трепетало и билось так, что дыханье перехватывало.
Городские ворота! Еще только Городские ворота, а уже без четырех минут восемь! В холодном поту, с болью в сердце, стараясь превозмочь тошноту, он мчался, озираясь по сторонам: не видно ли других школьников? Нет, нет, никого не видно! Все уже на месте, а тут как раз часы начали бить восемь. Звон доносился сквозь туман со всех башен, а часы на Мариенкирхе торжественно отмечали этот миг, играя «Творцу благодаренье…». Играли они омерзительно фальшиво, что, несмотря на свое отчаяние, все-таки заметил Ганно, не соблюдали ритма и были из рук вон плохо настроены. Но это все пустяки! Не пустяк то, что он опоздал, а в этом уже нет сомнения. Школьные часы немножко отстают, но все-таки он опоздал. Он пристально смотрел на встречавшихся ему прохожих. Они шли в свои конторы и департаменты, не слишком торопясь, — ничто им не угрожало. Некоторые отвечали на его жалобный, завистливый взгляд, в свою очередь окидывая взглядом его растерзанную фигурку, и улыбались. Эти улыбки приводили его в неистовство. Что они думают, эти спокойные счастливцы? Каким представляется им его положение? Ему хотелось крикнуть: «Ваши улыбки, господа, вызваны вашей душевной грубостью. Вы не можете понять, что я охотнее упал бы мертвым перед запертыми воротами школы…»