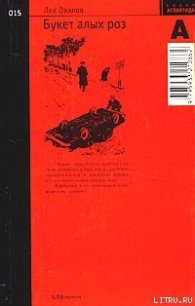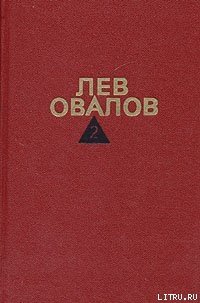Болтовня - Овалов Лев Сергеевич (чтение книг txt) 📗
— Да ты и так нюхательного табака Кукушке в обе ноздри наложил, — закричал я Парфенову и громко захохотал, нарочно захохотал, чтобы Кукушке обиднее было.
Действительно, Кукушка строго так, как петух на одной ноге, когда курицу обхаживает, поднялся и говорит:
— Ваш смех вовсе неуместен, товарищ Морозов. И за истечением перерыва объявляю себе заключительное слово. Все упомянутые недостатки произошли вследствие объективных причин, и нами будут приняты меры к изживанию такого состояния. Этим, я полагаю, разъясняю спрошенное недоумение и объявляю открытое собрание закрытым.
К черту! К дьяволу! Я знаю свои права! Теперь дураков нет!
Странно даже подумать: к работе относятся так, точно все решительно и бесповоротно сговорились угробить типографию. Работа ведется из рук вон плохо. Каждый занят личными делами, каждый то и дело бегает в завком, и каждому ровным счетом наплевать на выполняемое дело.
На собрании рабочих Кукушка помянул уже слово «консервация». Помянул неспроста. Если дошло до таких речей на собрании, значит, где-то такие речи велись еще много дней назад.
Нашу типографию хотят законсервировать. И мы точно беспомощные селедки ждем своей участи.
Каждый беспечен, будучи уверенным, что он найдет себе работу. Будьте спокойны, голубчики, каждый из вас найдет себе работу — ходить в Рахмановский переулок на биржу труда.
Любому из нас дело только до себя: где моя верстатка, кто ее стянул, — так, так и так! — но не хватает верстаток, плевать, моя у меня в руках.
Думая так, каждый из нас завтра же останется без верстатки. Приятели, подумайте о завтрашнем дне.
И, наконец, что мы оставим нашим детям? Уверенность, что у них были обыкновенные недалекие отцы?
Выходит, что вчера, дрожа на холоде из-за восьмушки хлеба и гоняясь, как лошадь, в поисках жратвы, я мог бороться за лучшую жизнь, а теперь, имея французские — они делаются в Москве, душистые — как они возбуждающе пахнут, поджаристые — как они хрустят на зубах — булки, мы работаем так, точно хотим завтра же их потерять.
Пока что у нас сокращают восемьдесят человек. Восемьдесят и из них двадцать наборщиков. И я попал в число двадцати. Разумеется, меня не сокращают, посмели бы меня сократить! Слишком долго и хорошо я работаю. Мне известно, что администрация за меня, директор определенно не хотел меня потерять, но заартачился завком, и — это редкий, очень редкий случай — директору пришлось пойти на уступку. Обо мне решили так: Морозов проработал четыре с половиной десятка лет на производстве, Морозову гарантирована пенсия, конечно, Морозов еще работает так, что за ним не угонится ни один молодой наборщик, но, сохраняя хлеб одному из двадцати сокращаемых, Морозова следует перевести на пенсию — и тогда придется сократить только девятнадцать.
Я на это не согласен. Я жалостливый человек, но, когда дело идет о моей работе, я становлюсь жесток. Работы своей не уступлю никому. Они сами говорят, что предприятию меня жалко терять, что работаю я чуть ли не лучше всех, и вот меня из-за вредной ненужной жалости увольняют ради сохранения хлеба не умеющему работать человеку. Из всех сокращаемых наиболее способный зарабатывает в месяц рублей сто, я же один двести — ведь деньги-то платят не задаром. Особенно хорош завком. Потому что я проработал четыре с половиной десятка лет, потому что я, как они выражаются, сознательный передовой рабочий, у меня надо отнять мое главное, мое единственное — труд… Нет, работы своей я не отдам, за работу свою буду грызться, и каждому, кто станет мне на дороге, перегрызу горло — иногда и мною овладевает злость.
Блеклым, сизым цветком увядала ночь. Мне не спалось. Я ворочался с боку на бок.
Я не люблю без толку валяться в постели — или спи, или вставай. Осторожно встав, я тихо оделся, стараясь никого не разбудить, и вышел на улицу. Легкие двери без скрипа — недаром я аккуратно смазывал петли керосином — захлопнулись за моей спиной.
Предутренние сумерки ласково окутывали сонные улицы. Тумана не было, в прозрачном сумраке дома казались ровнее, тротуары чище, небо прекраснее.
Славно думать в предутренние часы о своей жизни!
Но куда это я иду? Куда понесла меня нелегкая в этакую рань? Ну, ну! Нечего притворяться, будто ты не знаешь, куда направлен твой путь. Ты идешь к своему дому, в котором тебе не придется жить. Тем не менее этот дом — мой дом, я его строил, я давал на него деньги, я ругался с десятниками. Ерунда! Нет квартиры в этом доме — найдется в следующем. Пока же я хочу посмотреть на нашего первенца.
Вот и он. Неплохой домик выстроило наше товарищество. Он невысок — четыре его этажа не рвутся безнадежными мечтателями в небо, но они растянулись далеко вширь и прочно стоят на земле, белизной и прямизной стен радуя людей.
Он готов к приему хозяев, осталось доделать самую малость — кое-где застеклить рамы и побелить потолки. Людям, получившим квартиры, уже не терпится поскорее вбить в стены гвозди и навешать на них картинок и вешалок. Нам, строившим этот дом, они не дают покоя. «Скорее, скорее», — ежедневно слышим мы назойливые настояния.
Леса еще не сняты — точно грязные пеленки, окутывают они наше здоровое детище.
Так и есть: Игнатьич сладко спал, закутавшись в овчинный тулуп. Не в первый раз он вместо зоркой охраны нового здания отдавал оплаченное ночное бдение слабому старческому сну. Однажды за время его сна с постройки увезли тысячу кирпичей, в другой раз утащили несколько балок, и только заступничество седых членов правления оставило Игнатьича на работе. Господи, я опять хвалюсь: ведь седых-то у нас в правлении — да, да, только один я. Молчу.
Я не стал будить Игнатьича. Раз я здесь, он может спать спокойно. Мне не спится, и сторожить может кто-нибудь один.
Прикрыв за собой калитку, я тихо вступил на леса. Доски легко покачивались над ногами, слабый ветер обвевал меня сладким запахом свежего теса.
И вдруг я услышал шорох, доносившийся из глубины дома.
Так и есть. Игнатьич не уследил. В помещение забрался маленький жулик и небось при помощи тупой железной стамески крадет дверные ручки, в поте лица своего старательно и неумело отвинчивая упрямые винты.
Я вошел в здание.
Стены пахли свежей краской. Пустые комнаты казались необыкновенно громадными. Невысокие потолки в темноте теряли очертания.
Шорох доносился снизу.
Держась за перила, я медленно переступал со ступеньки на ступеньку. Третий этаж, второй, первый. Никого нет. Я прислушался. Мне показалось — затихавший шорох убежал куда-то в сторону и медленным тягучим движением пополз вниз.
Это не воровской шорох — странный, необычный…
Впервые в жизни небывалая таинственность остановила меня…
Вперед, товарищ Морозов, вперед, вниз.
Мой слух не ослаб — шум доносился из подвала, из отделения, где помещались котлы для парового отопления.
Не скрывая своих шагов, я быстро затопал покоробленными ботинками вниз, в подвал, — каменные ступеньки глухо повторяли дробь моих каблуков, и ясное эхо отвечало из-под сводов четвертого этажа.
Вот и котельное отделение, вот и мерцающий тусклый свет. Перед стеною стоит на коленях черный мрачный человек и держит над полом руку с зажженной спичкой.
Это не было похоже на воровство. Скорее всего, можно было подумать, что черный человек ищет клад. Но какие клады могут быть в только что отстроенном доме? Не клад ищет черный человек. Ясно: он хочет сжечь моего красавца. Он — некрасивый, мрачный, черный — завидует красоте, светлости и белизне нашего детища.
Некогда было раздумывать. Последовавшее за этой мыслью действие я не могу хорошо припомнить…
Я бросился на черного человека, дернул его руку, держащую зажженную спичку, и повалил на спину. Метнулась вверх зажженная спичка, взвилась в воздухе, потухла и, упав, слабо зашипела — так зудит пойманная в руку муха.
При тусклом бредовом свете крохотного карманного фонарика я тяжело ударил черного человека по лицу, еще, еще, еще. Неизвестный втянул голову в плечи, вскрикнул, и я его узнал.