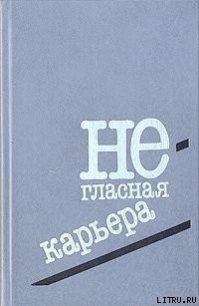Венгерский набоб - Йокаи Мор (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Предложения эти встретили живой ответный отклик у титанов. Каждому хотелось и на себя взять что-нибудь.
– И мне и мне поручите! – упрашивал тот юный джентльмен, который батюшку своего титуловал «его сиятельством». – И мне! – повторил он чуть не в десятый раз.
– С величайшей охотой, мой друг, – отозвался распоряжавшийся всем Абеллино. – Разыщите-ка поскорей мосье Оньона и попросите его сюда.
Молодой человек помедлил, соображая, достаточно ли высока для него эта честь. Потом все-таки решился, взял шляпу и ушел.
– А вы что же? И пальцем не хотите пошевелить? – обратился Абеллино к Рудольфу и его товарищам, стоящим в уголке.
– Где столько исполнителей, достаточно и зрителем быть, – ответил Рудольф в холодно-саркастичной своей манере.
Иштван же, взяв Абеллино под руку и запустив указательный палец ему в петлицу, привлек его к себе.
– Скажи, почему к госпоже Мэнвилль такая нелюбовь? Что она, оскорбила кого-нибудь из вас?
– Всех, а не кого-нибудь! И кровно оскорбила! Когда она приехала сюда четыре года назад, уж мы ли не хвалили ее; до небес превознесли, знаменитостью сделали мировой. А она чем нам за все за это отплатила? Неблагодарностью черной, подло отвернувшись ото всех ради нелюдимого ипохондрика, мужа своего. Галантнейших кавалеров отвергла, всем афронт дала, хотя многие предлагали ей связь самую достойную.
– А, ну тогда конечно, – обронил Рудольф с чуть заметной иронией.
– Но это еще не все! Недавно даем мы банкет исключительно для артисток и друзей искусства, а она даже явиться не соизволяет на него под тем предлогом, что муж, видите ли, болен, некому ухаживать за ним. Вот как, madame? Вы против нас? Так погоди же, ты еще у нас слетишь оттуда, куда сами мы тебя и вознесли.
– А если муж этого не допустит? – спросил Миклош, находя такой оборот дела вполне естественным.
– Муж? Que diable! Как это он не допустит? Они – актеры, мы – публика, они играют – мы платим; хотим – хлопаем, хотим – свищем. Им заплачено за все.
– Но позволь, еще одно, – сказал Иштван, по своей привычке поправляя галстук у собеседника, – женщина эта – уроженка Венгрии, дочь отчизны нашей. Неужто и здесь на все венгерское надо гонения устраивать?
– Соблаговолите вы мою петлицу отпустить или же прикажете скинуть фрак и вам его оставить? – отшутился вместо ответа Абеллино.
Иштван выпустил его, и юный пшют, элегантно вихляя бедрами, смешался с остальными титанами.
Вскоре вернулся и посланный на розыски юнец, плод мезальянса между чиновником и баронессой, в сопровождении мосье Оньона.
Господин этот был не кто иной, как claque entrepreneur, [122] а говоря по-венгерски – торговец свистками и хлопками. Очень влиятельный господин, властитель судеб литературных и сценических.
Один его товар – аплодисменты, метание венков на сцену и хвалебных од – сторговали быстро. С другим пошло труднее: освистать всеми уважаемую актрису – это не пустяк, за это так просто не возьмешься. Тут и с полицией рискуешь близко познакомиться, и публика, того и гляди, вступится. Да наконец и у клакера тоже сердце есть.
К счастью, оно и впрямь оказалось не камень, от нескольких сунутых в руку аргументов понемногу оттаяло. Ладно уж, сделаем что можно. Постараемся, чтобы приняли попрохладней; лимонада чтобы не носили, – пускай галерка повозится, поворчит, недовольная. А еще разные неожиданные интермеццо обыкновенно тоже помогают: ну, шляпа там, случайно уроненная в партер; зевок какой-нибудь во весь рот во время нежнейшего, тишайшего пианиссимо – развеселить публику попроще. Все это куда верней простого свиста. Скука, равнодушие – они не ранят, а подкашивают, свистки же да шиканье и на противодействие могут натолкнуться.
Итак, соглашение насчет послезавтрашнего дня было заключено и ратифицировано, – дня, которого не чаяли дождаться возбужденные титаны.
– Ну, кого ты из них домой заберешь? – спросил Рудольф приумолкнувшего приятеля.
– Тебя, во всяком случае.
Рудольф низко опустил голову и молча прошел с товарищами через все клубные помещения.
– Что ж… может быть, – только на лестнице промолвил он.
Посмотрим же теперь, что это за мадам Мэнвилль, которая вызвала столь бурное движение среди титанов. Внимания нашего она тем достойней, что была по рождению нашей соотечественницей и мировой знаменитостью, несмотря на то. Увы, только лишь была! Ныне и она уже почиет глубоким сном: волшебный голос ее умолк, стихла и молва о ней…
V. Карьера знаменитой артистки
О вещах совсем не возвышенных пойдет у нас речь. Поэзия лжет, правдива лишь сама жизнь.
Артистка, о коей я пишу, была один из феноменов своего времени. Природа одарила ее щедрым сердцем, прелестным личиком и пленительным голосом, гений искусства – вдохновенным творческим жаром, капризница судьба все свои богатства раскинула перед ней.
Слава гремела о ней от Москвы до Венеции, от Вены до Парижа и Лондона. Об артистке говорили как о редкостном диве; поэты, в чьих стихах герои исторических битв были вознесены до небес, ее воспевали, как солнце. Триумф, поистине блистательней наполеоновских, ибо стала она гордостью не одной лишь нации, а сразу всей Европы. В Англии ценили ее не меньше, чем в России, в Тюильри отдавали ей первенство столь же решительно, как и в Кремле. Имя ее было у всех на устах, как теперь Дженни Линд. [123] Тому едва минуло тридцать лет. Но больше никто уже его и не поминает.
Имя это – Жозефина Фодор. Дед ее, венгерский гусарский ротмистр Карой Фодор, в прошлом столетии выселился с тремя сыновьями в Голландию. Меньший, Йожеф, посвятил себя музыке и, женясь на француженке, сделался хормейстером герцога Монморанси. От этого брака и родилась Жозефина. Это была красивая девочка (знак того, что отец с матерью любили друг друга), с годами еще больше похорошевшая (доказательство, что и она своих родителей любила). Считайте это чистым суеверием, но, по-моему, у не любящих друг друга родителей и детей красивых быть не может, а уж не любящие своих родителей дети должны и вовсе уродами вырастать. Красота ведь – детище любви.
Когда разразилась французская революция, герцог Монморанси бежал за границу, и Йожеф Фодор воротился в Голландию. Там скончалась его жена. Сам же он познакомился с русским послом при нидерландском дворе князем Куракиным. Обожавший искусство русский вельможа пригласил музыканта в Россию и, сделав у себя регентом, воспитал его дочь вместе со своими под присмотром гувернеров с европейскими именами. Уже в десять лет девочка говорила на языках всего образованного мира. Родному же, варварскому своему, обучалась тайком сама – у отца.
Совсем еще в нежном возрасте Жозефина с таким блеском играла на арфе, превосходившей во многом несовершенное еще фортепьяно, что отец не побоялся выпустить ее в концерте перед избранным московским [124] обществом, приведенным ее игрой в полное изумление.
Два года спустя московские любители искусства опять ее услышали; на сей раз она пела. На концерте присутствовал сам царь Александр, которого ее голос так обворожил, что он на глазах у всех пожал ей ручку. Недели не прошло, и отцу ее пожаловано было камергерское звание с условием отпустить Жозефину в придворную оперу солисткой с окладом в три тысячи рублей.
Вскоре стала она любимицей публики. О, эти варвары там, под северным своим небом, о которых мы, просвещенные дети жаркого юга, думаем, будто все они в медвежьих шкурах ходят да под бубен пляшут, – варвары эти очень даже умеют чувствовать настоящее искусство.
Была в те времена в Москве и драматическая французская труппа. Премьером ее единодушно признавался г-н Таро-Мэнвилль; о нем все только и говорили.
Это был высокий, видный собой мужчина с твердыми и благородными чертами лица, на котором в обыденной жизни написаны были лишь честность и прямодушие. Таков и был истинный его характер. Но на сцене… там каких только выражений оно не принимало. И страсть, и ярость, безудержный гнев, пылкое волнение и чарующая нежность, тайное коварство и заразительное веселье с равным совершенством изображались на его лице. В этом и состояло его искусство.
122
содержатель, наниматель клаки (фр.)
123
Линд Дженни (1821–1887) – известная в середине прошлого века шведская певица.
124
Историческая Жозефина Фодор в детстве и юности жила и выступала в Петербурге.