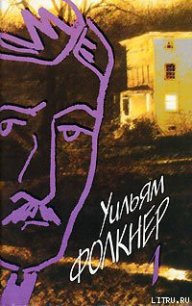Дикие пальмы - Фолкнер Уильям Катберт (мир книг TXT) 📗
Он отказался.
– Они твои. Ты их заработала. – Она посмотрела на него – немигающий желтый взгляд, в котором он, казалось, споткнулся и потерялся, как мотылек, как кролик, пойманный лучом фонарика; субстанция почти что жидкая, почти химический осадитель, который убирает взвесь мелкой лжи и сентиментальщины. – Мне не…
– Тебе не нравится мысль о том, что твоя женщина помогает и поддерживает тебя, да? Послушай. Разве тебе не нравится то, что у нас есть?
– Ты же знаешь, что нравится.
– Тогда какое имеет значение, чего это стоит нам, что мы платим за это? Или как? Ты похитил деньги, которые теперь у нас, разве ты не сделал бы этого еще раз? Разве это не стоит того, что у нас есть, даже если завтра все это полетит к чертям и всю оставшуюся жизнь нам придется платить проценты по счету?
– Да. Только завтра ничто не полетит к чертям. И не в следующем месяце. И не на следующий год…
– Не полетит. Не полетит до тех пор, пока мы будем достойны того, что у нас есть. Пока будем достаточно хороши. Достойны того, чтобы нам было позволено сохранить это. Получить то, что ты хочешь, с подобающим достоинством, а потом хранить то, что получил. – Она подошла и крепко обняла его, крепко прижалась к нему, не в ласке, а точно так, как она запускала пальцы ему в волосы, когда хотела разбудить его. – Вот что я буду делать. Постараюсь делать. Я люблю похныкать и люблю делать что-нибудь руками. Думаю, это не такой уж большой грех, чтобы из-за него мне не было позволено желать, стремиться, получить и сохранить.
Она заработала эту сотню долларов, работая по ночам, когда он уже лежал в постели, а иногда и спал; за следующие пять недель она заработала еще двадцать восемь долларов, потом выполнила заказ на пятьдесят. Потом заказы кончились, и больше ей ничего не удавалось найти. И все же она продолжала работать, теперь все время по вечерам, потому что днем ходила с образцами, с законченными фигурками, и теперь она обычно работала на публике, потому что их квартирка стала чем-то вроде вечернего клуба. Это началось с журналиста по имени Маккорд, который работал в одной новоорлеанской газете в тот короткий промежуток времени, когда младший брат Шарлотты (делая это, как полагал Уилбурн, по-дилетантски, по-ученически) стажировался там в качестве репортера. Она встретила его на улице; раз он пришел на обед к ним, другой – сам пригласил их; три дня спустя он появился в их квартире в обществе трех мужчин и двух женщин с четырьмя бутылками виски, и после этого Уилбурн уже не знал, кого увидит, придя домой, в одном можно было не сомневаться – Шарлотта будет не одна, но, независимо от того, кто бездельничал в их квартире, она, даже когда сезон падения спроса растянулся на недели, а потом на месяц, и когда уже совсем близко подошло лето, продолжала работать в своем дешевеньком, измазанном, как и у всех художников-надомников, комбинезоне, бокал виски с водой стоял среди скрученных обрезков провода, мисок с клеем и красками и гипсом, которые под ее ловкими, не знающими усталости руками неизменно и бесконечно превращались в фигурки – элегантные, странные, фантастичные и порочные.
Наконец продажи прекратились, в последний раз она продала совсем немного, и после этого все прекратилось окончательно. Оборвалось так же внезапно и необъяснимо, как началось. В магазинах ей сказали, что наступил летний сезон и приезжие с местными жителями бегут из города от жары. – Только это вранье, – заявила она. – Просто мы достигли точки насыщения, – сказала она ему, сказала всем им; это было вечером, она вернулась домой поздно с картонной коробкой, полной фигурок, принять которые отказались; вечерний набор визитеров уже прибыл. – Но для меня ничего неожиданного тут нет. Потому что все это так, безделки. – Она вытащила фигурки из коробки и расставила их на своем столе. – Нечто, созданное только для существования в черной, словно деготь, безвоздушной пустоте, вроде пустоты склепа или, может быть, ядовитого болота, а не в щедром, нормальном, питательном воздухе, наполненном ароматами овощей из Оук Парка и Эванстона. А потому с этим покончено, раз и навсегда. С этого момента я больше не художник, я устала и хочу есть, я лягу, свернувшись калачиком, с одной из наших любимых книжек и одной из наших корочек хлеба. А вас, всех и каждого, прошу подойти к столу и выбрать по такому случаю для себя подарок или сувенир, и забудем об этом.
– Мы можем питаться хлебом, – сказал он ей. Она еще не сдалась, думал он. Она еще не сломлена. Ее никогда не сломишь, думал, как уже думал прежде, о том, что есть в ней какая-то часть, к которой не прикасался ни он, ни Риттенмейер, и которая не любила даже любви. Не прошло и месяца, как он уверился, что получил доказательство этого; он пришел домой и увидел, что она снова сидит за своим рабочим столом, пребывая в состоянии сильного возбуждения, в каком он не видел ее раньше: возбуждения без экзальтации, проявившегося в ее рассказе каким-то решительным и неумолимым, непреодолимым напором. То был один из тех людей, которых приводил Маккорд, фотограф. Она будет изготовлять кукол, марионеток, а он – снимать их для обложек журналов и рекламных объявлений; потом, может быть, они используют самих кукол для шарад, живых картин… можно снимать залы, арендовать конюшни, что угодно, в конце концов. – Я буду тратить на это мои деньги, – сказала она ему. – Те самые сто двадцать пять долларов, которые я никак не могла уговорить тебя взять.
Она работала с напряженной и сосредоточенной яростью. Когда он ложился в постель, она сидела за столом, если он просыпался в два и три часа ночи, то видел, что яркий рабочий свет наверху продолжал гореть. Теперь, возвращаясь домой (сначала из больницы, а потом, когда потерял работу, со скамейки в парке, на которой он проводил дни; он по-прежнему уходил и возвращался в обычные часы, чтобы она ничего не заподозрила), он видел там фигуры размером почти с ребенка – Дон Кихота с худым и мечтательным неправильным лицом, Фальстафа с помятым лицом больного сифилисом парикмахера, грубого и ожиревшего (всего одна фигурка, но когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит две; человек и мешок мяса, словно огромный медведь и его хрупкий, готовый вот-вот сломаться остов; ему казалось, что он и на самом деле видит, как этот человек сражается с этой тушей, так остов мог бы бороться с медведем, не для того, чтобы победить его, а чтобы освободиться, бежать от него, как мы это делаем, преследуемые в ночных кошмарах первобытными чудищами), Роксану с наслюнявленными кудряшками и жвачкой во рту, похожую на участницу музыкального парада с плаката в дешевой лавке, Сирано с лицом еврея в низкопробной комедии – чудовищный полет ноздрей прекратился в миг его превращения в моллюска, с куском сыра в одной руке и чековой книжкой в другой; все эти фигуры, хрупкие, порочные и пугающие, с невероятной быстротой накапливались в квартире, заполняя все свободное пространство на полу и стенах: она начинала, работала над ними и завершала их в одном безустанном порыве яростного трудолюбия, отрезок времени разбивался не на последовательность дней и ночей, а представлял собой один сплошной поток, прерываемый только приемом пищи и сном.
Наконец она закончила последнюю фигурку и теперь исчезала из дома на весь день и половину вечера, он возвращался и находил размашисто написанную записку на клочке бумаги, или на оторванном газетном поле, или даже на телефонной книге: Меня не жди. Иди куда-нибудь, поешь, что он и делал, а потом возвращался и ложился в постель, а иногда и засыпал и спал до тех пор, пока она голышом (она никогда не спала в ночной рубашке, она сказала, что у нее никогда и не было ночной рубашки) не проскальзывала под одеяло и не будила его, чтобы он выслушал ее, не поднимала резким, почти борцовским движением; она обнимала его своими грубоватыми руками, говоря бесстрастным, спокойным, быстрым тоном не о деньгах или их нехватке, не о подробностях сегодняшнего развития событий со съемками, а об их теперешней жизни и ситуации, словно это было некое завершенное целое без прошлого или будущего, в котором и они как личности, и нужда в деньгах, и фигурки, которые она делала, представляли собой части единого целого, составляющие живой картины или головоломки, где все играют равную роль; она говорила в темноте, нимало не беспокоясь о том, открыты у него глаза или нет, а он, лежа спокойно и умиротворенно в ее объятиях, представлял себе их жизнь как хрупкий глобус, пузырь, который она удерживала в целости и сохранности над бурями и штормами, как обученный тюлень удерживает мячик. Ей еще хуже, чем мне, думал он. Она даже не знает, что такое надежда.