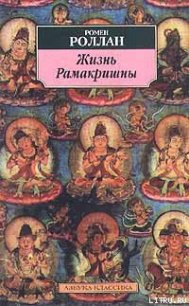Жан-Кристоф. Книги 1-5 - Роллан Ромен (список книг .TXT) 📗
Schola старалась освежить воздух, — она открыла окно в прошлое. Но только в прошлое. Это было все равно, что открыть окна во двор, а не на улицу. Большой пользы от этого не получилось. И, едва распахнув окно, члены Общества захлопывали его, как старые дамы, боящиеся схватить насморк. Таким образом, в комнату проникало лишь несколько глотков средневекового воздуха — Бах, Палестрина, народные песни. Но разве этого было достаточно? Воздух по-прежнему оставался затхлым. Впрочем, они чувствовали себя привольно в этой затхлости, — к свежим течениям современности они относились недоверчиво. И если они знали больше, чем другие, зато и отрицали больше других. Музыка приобретала в этом кругу чисто доктринерский характер; она не давала отдыха: концерты превращались в уроки истории или в назидательные примеры. Передовые мысли засушивались в академической печи. Великого бурлящего Баха приняли в лоно церкви, предварительно причесав. Музыка его претерпевала в схоластических мозгах приблизительно такую же метаморфозу, как неистовая и чувственная Библия в мозгах англичан. Все проповедуемые доктрины отдавали аристократическим эклектизмом, который пытался объединить отличительные черты трех или четырех великих музыкальных эпох с VI по XX век. Если бы возможно было осуществить это на деле, получилось бы музыкальное подобие тех ублюдочных построек, что были воздвигнуты одним вице-королем Индии: объездив весь мир, он набрал повсюду драгоценные материалы и пустил их в дело. Но здравый французский смысл спасал общество святого Григория от крайностей этого ученого варварства, — они тщательно остерегались применять свои теории на практике; они поступали с ними, как Мольер с врачами: брали рецепты, но не принимали лекарств. Более сильные шли своей дорогой. Остальное стадо довольствовалось очень учеными и головоломными упражнениями в контрапункте, называя их сонатами, квартетами и симфониями…
«Соната, чего ты хочешь от меня?» А она хотела лишь одного — быть просто сонатой. Мысль их была абстрактной и безличной, выделанной и безрадостной. Искусство добросовестного нотариуса. Кристоф, сначала обрадовавшийся тому, что французы не любят Брамса, теперь убеждался, что и во Франции есть много своих брамсиков. Все эти работяги — трудолюбивые и добросовестные — были преисполнены всяческих добродетелей. Кристоф расстался с ними, напичканный разного рода сведениями, но весь пропитанный скукой. Ничего не скажешь: хорошо, даже превосходно…
Но как прекрасен чистый воздух!
При всем том в Париже было несколько независимых композиторов, не принадлежавших ни к какой школе. Только они одни интересовали Кристофа. Они одни могли служить мерилом жизнеспособности искусства. Школы и кружки являются выразителями лишь поверхностной моды да надуманных теорий. Независимые же художники, которые умеют уйти в себя, умеют и уловить подлинные мысли своего времени и своего народа. Правда, от этого иностранцу еще труднее понять их, чем всех прочих.
Так именно и случилось с Кристофом, когда он услышал впервые то знаменитое произведение, о котором французы говорили тысячи нелепостей, а иные объявляли величайшей музыкальной революцией за последние десять веков. (Что им века? Дальше своего века они мало что понимают…)
Теофиль Гужар и Сильвен Кон пригласили Кристофа в «Опера комик» на «Пелеаса и Мелисанду» {105}. Оба сияли от радости, что угостят его таким произведением: казалось, что они сами его написали. Они намекали Кристофу, что здесь-то он и найдет свой путь в Дамаск {106}. Спектакль уже начался, а они все продолжали свои комментарии. Кристоф попросил их замолчать и весь превратился в слух. После первого акта он повернулся к Сильвену Кону, который, возбужденно блестя глазами, спросил его:
— Ну, уважаемый, что скажете?
Кристоф, в свою очередь, ответил вопросом:
— И так будет все время?
— Да.
— Но тут и слушать нечего.
Кон в негодовании обозвал его мещанином.
— Решительно нечего, — продолжал Кристоф. — Нет музыки. Нет развития. Никакой последовательности. Никакой связности. Очень тонкие гармонии. Мелкие оркестровые эффекты совсем неплохи, просто даже хорошего вкуса. Но в общем ничего, решительно ничего…
Он снова принялся слушать. Мало-помалу фонарик разгорался, — Кристоф начинал кое-что различать в полумраке. Да, Кристоф понимал, что тут сдержанность умышленная в противовес идеалу вагнерианцев, которые топили драму в волнах музыки; но он спрашивал себя не без иронии, не обусловлен ли этот жертвенный экстаз тем, что жертвующий приносил в жертву нечто такое, чем сам не обладал. Кристофу почудился в этом произведении страх перед настоящим трудом, поиски эффектов при наименьшей затрате сил, отказ ленивца от серьезных усилий, требуемых мощными вагнеровскими построениями. Он не остался нечувствительным к ровной, простой, скромной, притушенной декламации, хотя она показалась ему монотонной, и, как немец, он находил ее не совсем правдивой. (Он находил, что чем больше она стремилась к правдивости, тем сильнее чувствовалось, как мало подходит для музыки французский язык, слишком логичный, слишком графичный, со слишком четкими контурами, — по-своему совершенный, но герметически замкнутый мир.) Тем не менее попытка была любопытной, и Кристоф оценил в ней дух революционного протеста против необузданности и напыщенности вагнеровского искусства. Французский композитор как будто старался, с иронической сдержанностью, выражать все страстные чувства вполголоса. Любовь, смерть — все без крика. Лишь по неуловимому содроганию мелодической линии и по дрожи оркестра, подобной легкому подергиванию губ, можно было заключить о драме, разыгрывавшейся в душах. Художник словно страшился выдать себя. У него был тончайший вкус, изменявший ему лишь в те редкие мгновения, когда дремлющий в каждом французском сердце Массне просыпался и впадал в лиризм. Тогда сейчас же появлялись слишком белокурые волосы, преувеличенно алые губы, — буржуазка Третьей республики, играющая роль страстно влюбленной. Но решали не эти мгновенья, — они являлись передышкой от предельной сдержанности, которую предписывал себе автор; в остальных частях произведения царила утонченная простота — простота, которая не была простой, а являлась результатом волевого усилия, изысканным цветком состарившегося общества. Юный варвар вроде Кристофа неспособен был как следует насладиться ею. Особенно же его раздражала сама драма, оперное либретто. Ему все представлялась стареющая парижанка, разыгрывающая из себя девочку и требующая, чтобы ей рассказывали волшебные сказки. Это, конечно, не вагнеровская мазня, сентиментальная и тяжеловесная, как здоровенная рейнская девка. Но франко-бельгийская мазня — со всеми ее ужимками и салонным кривляньем («локоны», «бедный отец», «голубки»), со всей этой мистикой на потребу светским дамам — была не лучше. Парижские души гляделись в эту пьесу, как в зеркало, отражавшее в лестных образах их томный фатализм, их будуарную нирвану, их изнеженную меланхолию. И ни крупицы воли. Никто не знал, чего он хочет. Никто не знал, что он делает.
«Не я виноват! Не я виноват!..» — хныкали эти взрослые дети. На протяжении пяти действий, которые развертывались в сплошных сумерках — леса, пещеры, подземелья, комнаты со смертным ложем, — маленькие заморские птички еле шевелили крылышками. Бедные маленькие птички! Хорошенькие, теплые, изящные… Как они боялись слишком яркого света, грубых жестов, слов, страстей, самой жизни!.. Жизнь не слишком утонченна. Ее надо брать без перчаток…
Кристофу слышался приближающийся грохот пушек, которые сметут эту выдохшуюся цивилизацию, эту маленькую угасающую Грецию.
Может быть, именно это чувство горделивой жалости и внушило ему, несмотря ни на что, симпатию к опере. Во всяком случае, она заинтересовала его больше, чем он склонен был признать. Хотя по выходе из театра он упорно отвечал Сильвену Кону, что «вещь очень, очень тонкая, но ей не хватает Schwung (порыва), и на его вкус — в ней мало музыки», все же он не смешивал «Пелеаса» с другими французскими музыкальными произведениями. Его привлекал этот светильник, горевший в тумане. Он заметил и другие яркие, причудливые огоньки, мерцавшие кругом. Эти блуждающие огоньки занимали его: ему хотелось подойти к ним ближе, чтобы рассмотреть, как они светят, но они все время исчезали. К этим свободным музыкантам, которых Кристоф не понимал и которых он с тем большим любопытством желал бы понаблюдать, трудно было подступиться. Они, по-видимому, не чувствовали той страстной потребности в симпатии, которая томила Кристофа. За исключением одного-двух, они мало читали, мало знали, мало желали знать. В силу обстоятельств и по своей воле почти все они держались в стороне, обособленно, замкнувшись в тесном кружке, — из гордости, из дикости, из отвращения, из апатии. Как ни мало их было, они делились на крошечные соперничающие между собой группки, которые никак не могли ужиться друг с другом. Они отличались крайней обидчивостью, не выносили ни врагов, ни соперников, ни даже друзей и косились на них, когда те осмеливались восхищаться каким-нибудь другим музыкантом или позволяли себе восхищаться самими собою слишком холодно либо слишком пылко, слишком обычно либо слишком необычно. Угодить им было чрезвычайно трудно. Каждый из этих отшельников в конце концов заводил себе какого-нибудь критика, давал ему полномочия, и тот ревниво стоял на страже у пьедестала статуи. Прикасаться к ней воспрещалось. Но если ты один себя понимаешь, не рассчитывай, что тебя поймут другие. Избалованные лестью, сбитые с толку чрезмерным поклонением слишком горячих приверженцев и собственным самомнением, они утрачивали ясное представление о своем искусстве и своих дарованиях. Милые выдумщики изображали из себя реформаторов. Художники александрийского толка {107} выступали в роли соперников Вагнера. Почти все были жертвой своих раздутых репутаций. Надо было каждый день прыгнуть выше, чем они прыгали накануне, и выше, чем прыгнули их соперники. Эта вольтижировка не всегда проходила удачно, да и интерес эти упражнения представляли лишь для немногих профессионалов. Им не было дела до публики; публике не было дела до них. Их искусство было искусством без народа, музыкой, питавшейся музыкой же, профессиональной сноровкой. Между тем у Кристофа сложилось впечатление — правильное или ошибочное, — что никакая музыка не нуждается больше, чем французская, в поддержке извне. Это гибкое вьющееся растение не могло жить без подпоры; эта музыка не могла обойтись без литературы. В себе самой она не находила достаточных причин для существования. Она страдала одышкой, малокровием, слабоволием. Она походила на истомившуюся женщину, ожидающую самца, который овладел бы ею. Но эта увешенная драгоценностями византийская императрица с хилым и бескровным телом была окружена евнухами: снобами, эстетами и критиками. Нация в целом не была музыкальной; и все это увлечение, вся эта шумиха вокруг Вагнера, Бетховена, или Баха, или Дебюсси, длившаяся уже двадцать лет, не выходила за пределы узкой касты. Бесчисленные концерты — этот все заливающий поток музыки на всякую цену — отнюдь не являлись подлинным отражением развития общественного вкуса. То были просто крайности моды, которая захватывала лишь верхи и разлагала их. Любила музыку по-настоящему только горсточка людей; и часто даже не те, для кого она была постоянным занятием: не композиторы и не критики. Как мало во Франции музыкантов, действительно любящих музыку!