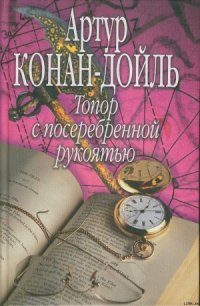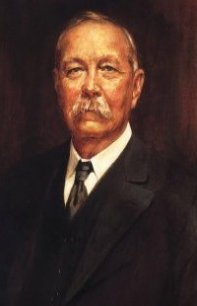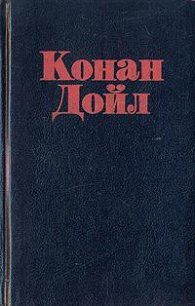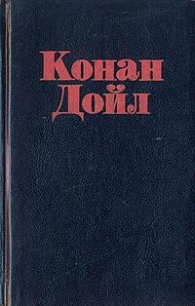Жена мудреца (Новеллы и повести) - Шницлер Артур (книги онлайн полные версии .txt) 📗
— О нет, не нужно.
— Тогда садитесь.
— С вашего позволения.
— Я пригласил вас в кафе, чтобы в последний раз… Но вы, может быть, все-таки что-нибудь закажете? Вот как раз кельнер.
— Принесите мне кофе с молоком, — сказал господин Добрдал, снимая меховую шапку и кладя ее на стол.
Эмерих осторожно взял ее и переложил на стул.
— Благодарю вас, — сказал господин Добрдал.
— Итак, — снова начал Август, — сколько у вас человек?
— Сорок. И как рассажены!
— В партере тоже?
— А как же, с одной галеркой мы ничего не сделаем. Самое главное — это партер.
— Вы их еще увидите до спектакля?
— А как же, все билеты у меня в кармане.
— Прекрасно. Итак, слушайте, господин Добрдал. Повторим еще раз. В первом акте — ничего. Мне даже хотелось бы, чтобы после первого акта аплодировали меньше, чем обычно.
— Это невозможно, господин фон Витте. Директор требует, чтобы было три вызова.
— Вот досада!
— Впрочем, знаете что, господин фон Витте? Я прикажу партеру после первого акта не хлопать.
— Ладно. Теперь второй акт — насчет этого нужно договориться. Сначала поет хор.
— Мне ли не знать, господин фон Витте!
— Вы слушайте, пожалуйста. После хора на сцене, как вы знаете, остается одна Бландини, страшно печальная; она бросается на диван, и в эту минуту выходит господин Роланд.
— Вот тут и пойдет потеха! — не выдержал Добрдал.
— Роланд? — удивился Фред.
— В этом-то и заключается вся наша шутка, — тихо объяснил Эмерих.
— Как только появится господин Роланд, — продолжал Август, — гром аплодисментов.
— Понятно, — сказал Добрдал.
— Сквозь аплодисменты, — сказал Август, — уже слышатся крики «браво»; аплодисменты продолжаются, а из оркестра подают венки. Теперь Роланд должен сказать: «Прекрасная дама…», или как там: «Прекрасная госпожа… это ожерелье вам господин мой посылает». Потом идет ария Бландини, во время которой Роланд стоит у двери. Потом Бландини подходит к Роланду и возвращает ему ожерелье.
— Это похоже на Бландини, — заметил Эмерих. Август бросил на него мрачный взгляд. Эмерих покраснел, и Август продолжал:
— Роланд берет ожерелье и спрашивает: «Что я должен передать своему господину?..» — или что-то вроде этого. Бландини на это: «Ничего». Роланд кланяется и уходит. И тут: бурные аплодисменты.
— Овация, — подхватил Добрдал.
— Правильно: овация, шум, крики «бис»… И прикажите своим не прекращать до тех пор, пока мы не заставим Роланда выйти и поклониться. Надеюсь, вы меня поняли, господин Добрдал?
— Господин фон Витте! На меня вы можете положиться!
— Значит, — закончил Август, — пока все.
Добрдал понял, поспешно допил свой кофе, встал, откланялся и ушел.
— Теперь я хотел бы, наконец, узнать, что все это значит, — сказал Фред.
— Могу объяснить, — ответил Август.
— Любопытно, — заметил Фред.
Эмерих насторожился.
— Во-первых, — продолжал Август, — я просто не понимаю, почему все должно обязательно что-нибудь значить.
Эмерих был разочарован, Фред засмеялся.
— А во-вторых, — быстро добавил раздраженным тоном Август, — если бы вы двое были способны вдуматься как следует в это дело, то вы не задавали бы таких вопросов. Не спорю, сначала у меня была на уме только веселая шутка; но получается нечто большее, нечто хорошее, нечто, я бы сказал, разумное: мы доставим радость бедняге, о котором обычно никто даже не вспоминает. Великих артистов чествуют, на мой взгляд, достаточно; но для спектакля нужны и малые.
— Это верно, — согласился Эмерих.
— Поэтому моя шутка имеет более глубокий смысл, и если публика нас поддержит сегодня вечером — в чем невозможно сомневаться — и будет аплодировать вместе с нами, то она, может быть, сама того не подозревая, будет чествовать в лице господина Роланда всех тех маленьких людей, о которых обычно забывает.
— Вот именно: сама того не подозревая, — сказал Фред. — Потому что пять минут назад ты и сам еще не подозревал, что ты такой благородный человек.
— Да, Эмерих был прав… — бросил Август.
Эмерих, приняв важный вид, спросил себя, в чем же это он был прав.
— … что тебе лучше ничего не говорить, — продолжал Август.
Эмерих пришел в ужас и посмотрел на Фреда с сочувственной нежностью.
— Ты отбиваешь всякую охоту что-либо делать, — сказал Август.
— Право, я тебя не понимаю, — рассмеялся Фред. — Ты так волнуешься, словно чувствуешь за собой какую-то вину. Все благородные поступки совершаются бессознательно, иначе они бы не были благородными. Придумает простой смертный какую-нибудь шутку, и она, естественно, становится подлостью; придумываешь эту шутку ты, и она, естественно, становится добрым делом.
Август сердито посмотрел на него.
— Ты что же, собираешься лишить нас удовольствия быть на спектакле в твоем обществе?
— Отнюдь нет, — с невинной миной ответил Фред. — А кроме того, ты ведь пригласил меня еще отужинать после спектакля с тобою, Эмерихом и Бландини.
— Совсем забыл.
— А я нет.
— Пора идти, — сказал Август.
Они расплатились, вышли из кафе и поехали в театр. Дорогой Эмерих смотрел то на одного, то на другого и чувствовал, что эти два человека расходятся во мнениях по какому-то важному вопросу. Когда они, выйдя из экипажа, поднимались по лестнице, ведущей к ложам, он собрался с духом и сказал:
— Дети, будьте же благоразумны!..
Август ничего не ответил, а Фред пожал Эмериху руку и сказал:
— Постараюсь.
Дверь в ложу открылась, и навстречу трем друзьям полились первые веселые звуки увертюры.
II
Первый акт окончился.
Фридрих Роланд сидел в своей уборной, один. Он был одет в фантастический костюм: черно-красный бархатный камзол и темно-голубое трико; на голове — великолепный парик из вьющихся каштановых волос и берет. Положив на колени шпагу, он задумчиво глядел в зеркало, откуда на него смотрело нарумяненное помолодевшее лицо с накладными усами. В таком оцепенении он сидел с начала спектакля. Вот он услышал за дверью шаги и голоса хористов, спешивших со сцены в свои уборные, затем опять все стихло. Роланд был рад, что он один: ему приходилось делить уборную с двумя другими коллегами, но они не были заняты в новой оперетте, и Роланд даже любил ее за это. Дело в том, что они не понимали друг друга, Роланд и эти довольные жизнью люди, которые с самого начала занимались своим нехитрым искусством как честные ремесленники и требовали только одного — чтобы оно их кормило. Роланд знал, конечно, что и его теперь считают таким же ремесленником; но сам он чувствовал в то же время, что его настоящее место отнюдь не среди них. Если бы счастье улыбнулось ему, он стал бы совершенно другим человеком. Об этом он и думал теперь, сидя в гриме перед зеркалом, как думал изо дня в день. Даже сегодня, после десятилетнего ангажемента в этом театре, он не мог войти в него без глухого чувства раздражения и стыда, и ему никогда не удавалось это скрыть. Поэтому его коллеги со свойственным низким людям безошибочным нюхом скоро обнаружили, где его можно больнее всего уязвить, и каждое проявление его характера: его речь — тихая и усталая, его медленная и, казалось бы, гордая поступь, даже его привычка, сощурив глаза, склонять набок голову, воспринимались как комические признаки его недовольства. Был у него когда-нибудь талант или нет — никто не знал; да об этом и не заходила речь: уже много лет он играл роли пажей, слуг, рабов, заговорщиков, исполнители которых на афишах не указывались, — чаще всего он был даже вторым рабом или третьим заговорщиком. Почему у него было больше причин жаловаться на свою судьбу, чем у других артистов, взятых на те же роли? У них было такое же прошлое, как у Роланда, они тоже много лет назад играли на маленьких сценах первых героев, любовников, интриганов. И среди них, может быть, не один с горечью вспоминал о том времени и, может быть, тоже не мог этого скрыть. Но все шутки, все колкости сыпались на одного Роланда, так как все видели, что он страдает от них больше других. Вначале он пробовал защищаться; пытался отвечать на остроты, но делал это весьма неловко; пытался грубить, но ему не хватало духу. Так он стал терпеливо сносить все обиды, замкнулся в себе и часто по целым дням не произносил ни слова. Все это как нельзя лучше вязалось со сложившимся о нем представлением; это тоже была комическая гордость «непризнанного гения». Мало-помалу слава о нем вышла за пределы узкого крута, в котором он вращался; каждый, кто в городе интересовался театральной жизнью, знал его имя, с которым было связано столько шуток; репортеры в блистающих остроумием заметках, зрители в разговорах друг с другом пользовались именем «Poланд» для того, чтобы кратко обозначить тип ничтожного, но тщеславного мима. Так это имя стало по-своему популярным, и — пусть иначе, чем это представлял себе когда-то Роланд, — его мечта о славе, казалось, все же сбылась. Теперь он был готов завидовать безвестным. Они могли надеяться, что в их судьбе еще произойдет поворот к лучшему; они могли когда-нибудь выступить из тени и предстать в достойном свете. Для него эта возможность утрачена навсегда. Два года тому назад он в последний раз отважился попросить у директора приличную роль. Тот с улыбкой отказал ему, и Роланд даже не мог на него обижаться. Потом он сделал еще одну, последнюю попытку покинуть этот город и вернуться в провинцию, где скитался первые десять лет своей артистической карьеры; но агенты в один голос заявили, что уже поздно, а опыт, который он накопил в свое время, играя героев в маленьких богемских и моравских городках, тоже не был настолько обнадеживающим, чтобы пробудить в нем решимость действовать на свой страх и риск. Итак, самое лучшее, что он мог сделать, — это смириться и, подобно другим бессловесным труженикам, тянуть свою лямку, чтобы как-то жить. Он был теперь совсем одинок, не хотел знаться ни с большими, ни с малыми. Прежде он после театра регулярно заходил в трактир, где собиралась веселая компания служащих театра и мелких бюргеров, которые гордились знакомством с людьми, причастными к сцене. Но когда появлялся Роланд, здесь на шутки тоже не скупились; становясь все недоверчивее, он нередко принимал за насмешку самое сердечное приветствие, и поэтому уже давно чувствовал себя чужим среди своих. Теперь он заходил туда, лишь выпив где-нибудь стакан-другой в одиночестве; после этого ему легче было верить дружеским словам, а на маленькие колкости он уже не обращал внимания. Да, в этом состоянии у него бывали даже минуты, когда в нем пробуждались странные надежды на какую-то блистательную перемену; он начинал верить, что счастливый случай вдруг вознесет его на более достойное место, и поэтому отвечал презрением на все насмешки, которыми явно и тайно осыпали его… Но так как даже вино редко приводило его в такое настроение, то он ходил обычно с видом человека, которому нанесена тяжкая обида и не суждено получить удовлетворения. Прежде у него бывали мимолетные увлечения женщинами, озарявшие его жизнь последними отблесками молодости; но вот уже несколько лет, как все это кончилось, и теперь он больше не верил нежным и вопросительным взглядам, которые порой еще останавливались на нем. Последние недели ему иногда случалось находить на столике своей уборной фиалки; он даже не узнавал, откуда они; это была, разумеется, очередная шутка; такая же шутка, как и нежные записки, которыми его заманивали на свидания, куда либо вовсе никто не являлся, либо приходили суфлер или несколько дам из хора, которые весело потешались над его озадаченным видом.