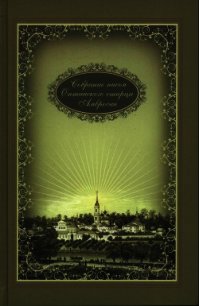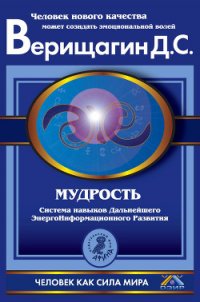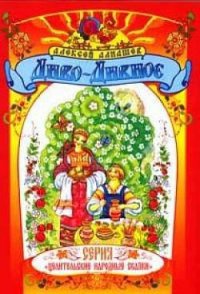Сильна как смерть - де Мопассан Ги (книги без регистрации .TXT) 📗
И когда, зачарованный этим возвращением былого, он опять смотрел на нее, то, встречаясь с ней глазами, он испытывал нечто похожее на внезапную слабость, какую вызывал у него взгляд ее матери в первую пору их любви.
Они уже трижды обошли парк, каждый раз проходя мимо тех же людей, тех же детей, тех же нянек.
Теперь Аннета рассматривала особняки, которые окружают парк, и справлялась об именах их владельцев.
Ей хотелось все знать обо всех этих особах, и она расспрашивала Оливье с жадным любопытством, как бы наполняя сведениями свою женскую память, она слушала не только ушами, но и глазами, и лицо ее светилось живым интересом.
Но, когда они подошли к павильону, разделяющему два выхода на внешний бульвар, Бертен заметил, что скоро пробьет четыре часа.
— Ого! — сказал он. — Пора домой.
И они не спеша дошли до бульвара Мальзерба.
Расставшись с девушкой, художник спустился к площади Согласия: он должен был нанести визит на другом берегу Сены.
Он напевал, ему хотелось бегать, он готов был прыгать через скамейки — до того бодрым он себя чувствовал. Париж казался ему каким-то праздничным и красивее, чем когда бы то ни было. «Право, весна все покрывает новым лаком», — подумалось ему.
Он переживал те мгновения, когда возбужденный ум все вбирает в себя с большим наслаждением, чем обычно, когда глаз видит зорче и кажется более восприимчивым и более ясным, когда острее испытываешь радость от того, что видишь и ощущаешь, как будто некая всемогущая рука внезапно освежила все краски земли, одушевила движения всех существ и снова подвинтила механизм наших ощущений, подобно тому, как подводят отстающие часы.
Ловя взглядом множество занятных картинок, он думал: «Кто бы мог поверить, что бывает время, когда я не нахожу сюжетов!» Взор его стал таким свободным, таким прозорливым, что все его творчество показалось ему банальным, и он попытался представить себе, как бы он начал работать в новой манере, более правдивой и менее обычной. И желание вернуться домой и взяться за дело внезапно охватило его и заставило повернуть назад и запереться у себя в мастерской.
Но как только он очутился перед начатым полотном, жар, который еще минуту назад воспламенял в нем кровь, внезапно погас. Он почувствовал, что устал, сел на диван и снова погрузился в мечты.
Блаженное спокойствие, в котором он жил, беззаботность благополучного человека, все потребности которого удовлетворены, потихоньку уходили из его сердца, словно он что-то утратил. Он ощутил одиночество в своем доме, пустоту в своей мастерской. Он огляделся вокруг, и ему показалось, будто он видит тень женщины, присутствие которой было ему так приятно. Он давно уже забыл нетерпение влюбленного, ожидающего прихода своей любовницы, и вот неожиданно почувствовал, что она далеко, и с юношеской горячностью пожелал, чтобы она оказалась рядом.
Он растроганно думал о том, как они любили друг друга, и во всей этой просторной комнате, куда она так часто приходила, видел бесконечные напоминания о ней, о ее движениях, о ее словах, о ее поцелуях. Он вспоминал некоторые дни, некоторые часы, некоторые мгновения и всем существом ощущал ее прежние ласки.
Не в силах долее сидеть на одном месте, он встал и принялся шагать по мастерской, снова думая о том, что, несмотря на эту связь, которой было наполнено его существование, он совершенно одинок, всегда одинок. После долгих часов работы, растерянно оглядываясь вокруг, как человек, который пробудился и возвращается к жизни, он видел и ощущал только стены — лишь к ним он мог прикоснуться, лишь с ними мог заговорить. В доме у него женщины не было; с той, которую он любил, он встречался украдкой, как вор, и ему приходилось проводить часы досуга в общественных местах, где можно найти или купить какой-нибудь способ убить время. Он привык к клубу, привык к цирку и к ипподрому, в определенные дни привык бывать в Опере, привык бывать везде понемногу, — лишь бы не возвращаться к себе домой, где он, несомненно, оставался бы с радостью, если бы жил вместе с нею.
В былые времена, в часы любовного безумия, он порой жестоко страдал от того, что не может оставить ее у себя; потом, когда пыл его стал угасать, он безропотно принял и то, что они живут порознь, и свою свободу; теперь же он снова жалел об этом, как будто его прежняя любовь к ней воскресла.
И эта вернувшаяся нежность нахлынула на него так внезапно, почти беспричинно — только потому, что сегодня была хорошая погода, а быть может потому, что утром он услышал помолодевший голос этой женщины! Как мало надо, чтобы взволновать сердце мужчины, стареющего мужчины, у которого воспоминания превращаются в сожаления!
Снова, как в былые времена, потребность увидеть ее вернулась к нему, проникла в его душу и тело, как лихорадка, и он стал думать о ней почти так, как думают влюбленные юноши: он мысленно возбуждал ее и возбуждался сам, чтобы сильнее желать ее; потом он решил, несмотря на то, что видел ее утром, зайти к ней на чашку чая вечером.
Часы тянулись для него бесконечно долго, и, когда он выходил из дому, отправляясь на бульвар Мальзерба, его охватил отчаянный страх, что он не застанет ее дома и ему опять придется просидеть весь вечер в полном одиночестве, как просидел он, впрочем, немало вечеров.
На его вопрос: «Графиня дома?» — лакей ответил:
«Да, сударь» — и наполнил его сердце радостью.
— Это опять я! — ликующе произнес он, появляясь на пороге маленькой гостиной, где обе женщины работали под розовыми абажурами металлической лампы английской работы, с двойной горелкой на высокой тонкой ножке.
— Как, это вы? Вот замечательно! — воскликнула графиня.
— Да, я. Я почувствовал себя очень одиноким и пришел.
— Как это мило!
— Вы кого-нибудь ждете?
— Нет… может быть… право, не знаю.
Он уселся и бросил презрительный взгляд на вязанье из грубой серой шерсти; женщины быстро шевелили длинными деревянными спицами.
— Что это такое? — спросил он.
— Одеяла.
— Для бедных?
— Да, конечно.
— Какие безобразные!
— Зато какие теплые!
— Пусть так, но уж очень они безобразны, особенно в комнате в стиле Людовика Пятнадцатого, где все радует глаз. Если не ради ваших бедняков, так ради ваших друзей вы должны были бы заняться более элегантной благотворительностью.
— Господи! Ох уж эти мужчины! — воскликнула графиня, пожимая плечами. — Да ведь сейчас такие одеяла вяжут всюду!
— Я это прекрасно знаю, слишком хорошо знаю. К кому ни зайдешь, у всех непременно увидишь эту ужасную серую тряпку рядом с самыми прелестными туалетами и самой кокетливой мебелью. Нынешней весной милосердие отличается дурным вкусом.
Желая убедиться в его правоте, графиня растянула свое вязанье на обитом шелком, свободном стуле, стоявшем подле нее, и равнодушно согласилась:
— В самом деле, это некрасиво.
И снова принялась за работу. На две головы, склонившиеся под двумя лампами, совсем близко друг от друга, струились потоки розового света, разливавшиеся по их волосам, лицам, платьям, по двигавшимся рукам; мать и дочь смотрели на свою работу с поверхностным, но неослабным вниманием женщин, привыкших к этому рукоделию, за которым следят глазами, но о котором уже не думают.
Во всех четырех углах комнаты на старинных деревянных колонках с позолотой стояли еще четыре лампы из китайского фарфора и лили на драпировки мягкий, ровный свет, затененный кружевными транспарантами, надетыми на стеклянные колпаки.
Бертен облюбовал низенькое-низенькое, крошечное креслице — он едва мог в нем поместиться, но всегда предпочитал его: так он мог разговаривать с графиней, сидя почти у ее ног. Графиня сказала:
— Вы с Нане совершили сегодня далекую прогулку по парку.
— Да. Мы болтали как старые друзья. Я очень люблю вашу дочь. Это ваш вылитый портрет. А когда она произносит некоторые фразы, можно подумать, будто вы забыли свой голос у нее в горле.
— Мой муж очень часто говорил мне то же самое. Он смотрел, как они работают, купаясь в сиянии ламп, и мысль, от которой он так часто страдал, от которой он страдал еще днем, — дума о его пустом, застывшем, безмолвном особняке, холодном в любую погоду, как бы ни были раскалены камины и калориферы, — опечалила его так, словно он впервые по-настоящему понял, что он один на свете.