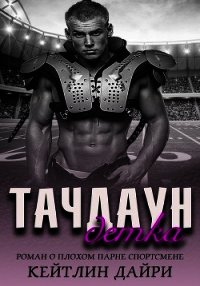Бедный расточитель - Вайс Эрнст (книги полностью бесплатно TXT) 📗
Обоим балбесам не понравилось, что я немного успокоился. Они принялись дразнить меня, пытаясь пробудить мою известную уже и здесь вспыльчивость. Сначала они бренчали в кармане серебряными и даже золотыми монетами, потом, положив их себе на ладонь и держа у меня перед глазами, кричали «на-на», совсем как большой овчарке, которую они долго дразнили, прежде чем бросить ей кость.
Я сердился, но еще вполне владел собой. Я чувствовал только, что бледнею и внутри у меня начинает все дрожать. Повернувшись к ним спиной, я направился к своей кровати возле большого окна, на котором висели спущенные длинные грязно-серые холщовые шторы, и достал рюкзак, который мне купила еще она.
Потом я раздвинул шторы и стал смотреть на улицу. За домом, уходя к горизонту, простирался волнистый, снежный ландшафт. С холма, дребезжа в ночной тишине, спускалась крестьянская телега, маленький красный фонарь светился на ее дышле… Может быть, какой-нибудь крестьянин едет в город за врачом для жены или ребенка, ведь обычно праздничные визиты не делаются в столь поздний час, а рабочие фургоны начнут ездить только с завтрашнего дня… Я все еще был погружен в свои мысли, когда передо мной выросли оба юнца и принялись за старые шутки. Надзиратель, всегда строго следивший за порядком, на праздниках предоставил нам большую свободу. Иначе не удалось бы, конечно, так беспрепятственно провести мой опыт с чудесным излечением. Повторение сегодняшнего сеанса было гораздо менее опасно, я видел, что малыш сам подложил под себя фотографию и спокойно протянул товарищам руки, чтобы они связали их, но мальчикам доставляло куда больше удовольствия связывать его, когда он оказывал сопротивление.
Враги мои не давали мне покоя. Они называли меня мокруном, они потешались над моим рюкзаком, они награждали меня самыми омерзительными ласкательными именами, но я знал, кто я и кто они, и молча, правда, несколько принужденно, улыбался. Наконец старшему взбрела на ум новая идея. Он вспомнил, что я хвастался отцом, и принялся унижать его. Если б он употреблял обычные ругательства, я, вероятно, великолепно справился бы с собой, но он прибег к бесконечно глупому способу — он произносил слово наоборот, заставляя меня (да и кто бы мог устоять против этого?) понять его смысл.
Например, улыбаясь радостной улыбкой во весь свой дурацкий рот, он сказал:
— Твой отец — нат-ал-раш!
Я готов был наброситься на него, но решил сдержаться. Я обязан был это сделать, и я пробормотал сквозь зубы, обращаясь к его приятелю:
— Скажи ему, чтоб он заткнулся!
Но тот и сам потешался, да и другие гимназисты (некоторые стояли в ночных сорочках, некоторые еще не успели даже снять носки) веселились что было силы.
— Скажи ему, — упрямо повторял Голиаф-старший, — скажи ему, что его отец ле-ти-барг.
Это вызвало новый взрыв хохота. Я бы тоже, может быть, рассмеялся, если бы дело шло не о моем отце.
— Возьми свои слова обратно, — закричал я, — немедленно возьми их обратно! Мой отец не грабитель.
Вероятно, когда я жил дома, до слуха моего как-нибудь дошло, — ребенок слышит многое, чего он не должен слышать, — что отец требует высокую мзду за свое неподражаемое искусство. Оба болвана, конечно, не могли знать об этом, они просто хотели задеть и оскорбить меня.
— Я и не говорю грабитель! Вовсе нет! — издевался большой дурак. — Только нат-ал-раш и ле-ти-барг.
Вынести такую низость и тупость я не мог. Я пришел в неистовство, ощутил то же мрачное счастье, что и после первых четырех стаканов польской наливки, и, собрав все силы, бросился на высоченного олуха, который не ждал моего нападения. Боли от его ударов я не чувствовал, они только придавали мне силы.
Яростно защищаясь от обоих Голиафов, я испытывал необычайно глубокое блаженство, и когда мне удалось ударить болвана кулаком в зубы, по мне словно прошел электрический ток. Вероятно, рука моя была не очень сильна и я не смог бы добиться такого необычайного результата, но я бросился на него всем телом.
Прижав руку ко рту, Голиаф с криком подался назад и споткнулся, наступив на занавеску. В тишине послышался звон оконного стекла. Голиаф упал, но, к счастью, на занавес и не поранил голову.
Разумеется, мы все испугались, что надзиратель может услышать шум. Несколько мальчиков кинулись проворно убирать осколки, другие, еще проворнее, залезли в постели.
Мокрун, лежа на кровати, следил за борьбой, улыбаясь счастливой улыбкой. Если вчера жертвой был он, то сегодня жертвами оказались оба Голиафа и я.
Я полагал, что все уже в порядке, но Голиаф с трудом поднялся и, все еще прижимая ко рту огромную безобразную лапу, сплюнул в нее красноватую жидкость.
Мне не понравилось выражение его лица. Он подошел ко мне, молча показал содержимое своей ладони, и я с ужасом увидел, что сквозь красную жидкость, просвечивает что-то блестящее и белое — зуб. Этого я никак не хотел.
Я рухнул на край ближайшей кровати, с которой меня попытался спихнуть ее законный владелец, но вдруг сквозь отчаяние у меня мелькнула мысль.
— Дай мне его! — пробормотал я, обращаясь к юноше. Голиаф I сделал знак своему кузену, и тот подал мне двумя пальцами — большим и мизинцем — зуб, удивительно белый, красивый глазной зуб, блестящий, с маленькими волокнами на остром кончике.
— Открой рот! — приказал я.
Голиаф послушно разинул рот, и я увидел, что кровь сочится из маленькой раны с рваными краями. В эту минуту я не думал ни об отце, ни о матери, я думал только о моей ответственности, о моем врачебном долге. Не вчерашнее ли чудесное исцеление придало мне такую смелость? Я познал уже, что значит сила врачебной уверенности, — окружающие слепо мне повиновались.
— Дай твой нож! — крикнул я Голиафу I.
Голиаф подал мне нож. Я взял зуб и побежал в умывальную. Открывая нож, я бережно положил зуб на мыльницу. Потом тщательно вымыл зуб и попытался снять ножом прилипший к нему кусочек ткани. Как только я совершенно очистил зуб, я вернулся в дортуар, в котором стояла мертвая тишина.
— Открой рот! — приказал я сухо.
Голиаф широко раскрыл рот. Из его глупых глаз катились слезы. Вот оно, возмездие! За нат-ал-раша ему пришлось довериться именно шарлатану! Я повел парня, который дрожал всем телом, под лампу и попытался вставить зуб на прежнее место. Но это оказалось гораздо труднее, чем я полагал. Хотя операция была очень болезненна, бедняга молчал, как мышь. Он мог укусить меня, но я знал, что он этого не сделает, он понимал, что я хочу ему помочь.
Наконец я решил прибегнуть к другому способу. Я убедился, что при таком тусклом свете не могу положиться на свое зрение, тем более что из рваной раны продолжала сочиться кровь. Тогда я решил положиться на свое осязание и поступил правильно.
Сначала я хорошенько ощупал нужное место, затем взял зуб двумя пальцами правой руки, оттянул вспухшую губу книзу, а язык прижал к небу, потом указательным пальцем левой руки раздвинул края раны, втиснул в нее зуб и тотчас же почувствовал, что он беспрепятственно и очень глубоко вошел в маленькое отверстие. Потом я еще раз заставил парня открыть рот и убедился, что зуб стоит совершенно правильно. Теперь нужно было, чтобы зуб оставался в таком положении несколько часов, покуда не врастет снова.
Мне и тут пришла в голову мысль.
— Нож! — крикнул я. (Я оставил нож в умывальной комнате.) Но бедный Голиаф вдруг позеленел, как сыр, и я понял, что он боится второй, еще более страшной операции. — Нет, не пугайся! — сказал я. С каким чувством я произнес слова утешения, с которыми недавно обратилась ко мне директорша. — Успокойся. Я ничего тебе больше не сделаю.
Он попытался улыбнуться. Он позволил бы сделать с собой все что угодно, лишь бы ему сохранили зуб и его мужскую красоту. Мне подали нож.
— Принеси пробку от бутылки с наливкой, — приказал я, и когда мне принесли цилиндрическую пробочку, я вырезал в ней маленький желобок и вставил пробку юноше в рот.
— Ну, крепись! Прикуси как следует! — сказал я, и он прикусил.