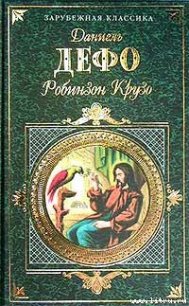Счастливая куртизанка - Дефо Даниэль (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Словом, повторяю, я усыпила свою совесть довольно странным доводом, а именно — что, поскольку сопротивляться было свыше моих сил, следовательно, поведение мое не является беззаконным; ибо, рассуждала я, небеса не допустят, чтобы мы несли наказание за то, чnо мы не в состоянии избежать. И вот, успокоив свою совесть подобными нелепостями, я убедила себя в законности своей связи с принцем, с такой же легкостью, как если бы и в самом деле была с ним обвенчана и никогда прежде не была замужем за другим. Человек способен погрязнуть в грехе так глубоко, что становится совсем уже глухим к голосу совести — а страж сей, стоит лишь его усыпить, спит сном непробудным, покуда источник наслаждения не иссякнет или какое-нибудь мрачное, поистине ужасное происшествие не заставит нас прийти в себя.
Признаюсь, я сама дивилась отупению, в котором пребывала моя мысль всю ту пору, дурману, усыпившему мой дух, и тому, как могло статься, что я, которая в первом случае, когда искушение было много сильнее, а доводы — неотразимее, тем не менее постоянно сокрушалась по поводу своего неправедного образа жизни, как могла я теперь жить в столь глубоком и ничем не нарушаемом спокойствии духа и, более того, испытывать радость и полное блаженство, несмотря на то, что нынешнее мое прелюбодеяние было гораздо более явным, чем прежнее. Ибо тогда мой друг, именовавший себя моим мужем, имел хотя бы то оправдание, что законная жена его покинула, отказавшись исполнять свой супружеский долг. Что до меня, то я сейчас находилась точно в таком же положении. Зато принц мало того, что был женат на прекрасной женщине, в жилах которой текла самая благородная кровь, одновременно содержал двух или трех любовниц помимо меня и ничуть этого не стыдился.
Впрочем, повторяю, я, со своей стороны, наслаждалась совершенным душевным покоем; и если принц был единственным божеством, коему я поклонялась, то и он меня, можно сказать, боготворил; не знаю, каковы были его отношения с принцессою, но другие его любовницы почувствовали перемену, и, хоть им так и не удалось меня обнаружить, они — о чем мне стало достоверно известно — прекрасно догадывались, что у их господина появилась новая фаворитка, лишившая их его общества, а также, быть может, в некоторой степени и щедрых даров, какие они привыкли от него получать. Здесь будет уместно упомянуть жертвы, которые он приносил своему новому идолу, а, они были, смею вас уверить, немалые.
Подобно тому, как любовь его была поистине княжеской, он и вознаграждал предмет своей любви по-княжески. Ибо, хоть он и не позволял мне появляться в свете во всей моей новоявленной роскоши, он убедительно доказал, что к подобному запрету его побуждала отнюдь не скупость. Поэтому он объявил мне, что вознаградит меня за мое отшельничество иными способами. Первым делом он прислал мне туалетный столик, вся утварь которого была из серебра, вплоть до самой крышки стола; затем он мне подарил тот самый столик, или сервант, с серебряной посудой, упомянутый мною выше; все принадлежности, относящиеся к этому столу, были также из тяжелого серебра; словом, я, хоть убей, не могла бы придумать, чего мне не хватает из столовой утвари.
Поэтому единственное, чем он мог меня еще одарить, — это драгоценностями и нарядами, либо деньгами на оные. Он послал своего камердинера к торговцу шелком и бархатом, приказав ему купить мне платье тончайшей парчи, затканной золотом, и другое — серебром, и еще третье — алой вышивкой. Таким образом у меня было три наряда, в каждом из которых не погнушалась бы показаться сама королева французская. Сама я, однако, нигде не показывалась, но как наряды эти были подгаданы к истечению срока моего траура [32], я их надевала — то одно, то другое попеременно — всякий раз, что меня посещал принц.
Помимо названных трех нарядов, было у меня еще не меньше пяти платьев, приличных утренним часам, так что мне никогда не приходилось показываться ему дважды подряд в одном и том же наряде. Ко всему этому он прибавил кружева и несколько штук тонкого полотна, причем все это в таком количестве, что мне не только не оставалось желать большего, но и того, что было, хватало с лихвой.
Однажды, посреди вольностей любви, я позволила себе заметить, что его щедрость чрезмерна, что я обхожусь ему слишком дорого в качестве любовницы и что я была бы не менее преданной его рабой, если бы он не затрачивал на меня столько средств. Мне не о чем больше было просить, объяснила я ему, и нарядов и драгоценностей, коими он меня одарил, сказала я, столь много, что я не успеваю их надевать; они были бы нужны, продолжала я, если бы я держала великолепный выезд, а это, как ему известно, сказала я, в такой же мере нежелательно для меня, как и для него. Он обнял меня с улыбкой и сказал, что, покуда я принадлежу ему, он будет следить за тем, чтобы мне не было нужды его о чем-либо просить, сам же он между тем намерен просить меня каждый день о какой-нибудь новой милости.
Когда мы встали (ибо проведенную выше беседу мы вели, лежа в постели), он пожелал, чтобы я надела лучший свой наряд. Это было дня два спустя после того, как его велением мне были доставлены ной новые платья. Я ответила, что — с его дозволения — мне хотелось бы одеться в то платье, которое, как я знала, больше всего нравится ему самому. Он спросил, как могу я судить, какое платье ему должно понравиться, когда он еще ни одного из них не видел. Я сказала, что возьму на себя смелость угадать его вкус по своему собственному. С этими словами я покинула спальню, надела второе из платьев — то, что было расшито серебром, — и возвратилась во всем параде — с головой, убранной кружевами, цена которым в Англии была бы 200 фунтов стерлингов, — не меньше. Все было отлично на мне прилажено стараниями Эми, которая в этом деле знала толк. В таком-то виде я встала в двустворчатых дверях уборной, которые открывались прямо в его спальню.
Принц долгое время сидел и глядел на меня, не проронив ни слова, точно онемев от восторга. Наконец, я сама подошла к нему и, опустившись на одно колено, попыталась против его воли поцеловать ему руку, что мне почти удалось. Однако он поднял меня, встал с кресла сам и крепко, прижал меня к своей груди; по моим щекам струились слезы, и он был немало этим удивлен.
— Душа моя! — воскликнул он, — Что означают эти слезы?
— Господин мой, поверьте, — произнесла я наконец, когда мне удалось немного совладать с собой, — поверьте, молю вас, что слезы эти выражают не печаль, а радость. При мысли о том, как из самых глубин злополучия, в кои меня бросила судьба, я вдруг очутилась в объятиях принца столь доброго и великодушного и пользуюсь столь участливым его расположением, я не в состоянии удержаться от слез. Благодарность переполняет мое сердце и нет-нет дает о себе знать в проявлениях, бурность коих соразмерна лишь щедрости, с какою вы меня осыпаете своими дарами, и любови, какою ваше высочество удостаивает столь недостойное существо, как я.
Не стану повторять все добрые слова, которые он сказал мне в Ответ, ибо это слишком походило бы на роман. Не могу, однако, удержаться от того, чтобы не привести одну небольшую сценку.
При виде слез, струившихся по моим щекам, он вынимает свой платок тончайшего батиста с тем, чтобы вытереть их, но тут же удерживает руку, словно чего-то испугавшись. Итак, он удерживает свою руку, как я сказала, и кидает платок мне, чтобы я сама вытерла слезы. Я тотчас смекнула, в чем дело, и сказала ему с игривым укором:
— Ужели, мой господин, — воскликнула я, — столько раз меня целовавши, вы так и не поняли, чему я обязана своим цветом лица — природе или белилам с румянами? Прошу ваше высочество убедиться, что я не прибегаю ни к каким ухищрениям, дабы понравиться вам. Дозвольте же мне на сей раз проявить некоторое тщеславие и доказать вам, что як вам явилась не под чужими знаменами.
С этими словами я вложила платок ему в руку, и, не отпуская ее, заставила его тереть мне лицо с такой силой, что он пытался уклониться от этого действия из боязни причинить мне боль.
32
…к истечению срока моего траура… — Французский кодекс устанавливает срок траура — 10 месяцев.