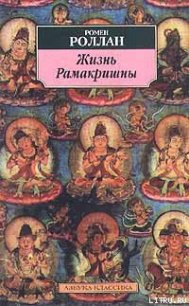Жан-Кристоф. Книги 1-5 - Роллан Ромен (список книг .TXT) 📗
Как он обрадовался посылке от Лорхен, молоденькой крестьянки, из-за которой у него произошла стычка с прусскими солдатами! Лорхен писала, что выходит замуж, сообщала, как поживает его мать, и посылала корзину яблок и лепешку, пусть съест за ее здоровье. Подарок пришелся весьма кстати. В тот вечер у Кристофа наступил великий пост: от подвешенной за окном колбасы осталась только бечевка. Кристоф сравнивал себя со святыми отшельниками, которым ворон приносил пищу на их скалу. Но у ворона, видно, был не один отшельник на иждивении, ибо больше он не прилетал.
Несмотря на все эти неудачи, Кристоф не терял бодрости. Он сам стирал белье в умывальной чашке и чистил башмаки, насвистывая, как дрозд. Он утешался словами Берлиоза: «Будем выше житейских невзгод и радостно затянем всем знакомый веселый припев: «Dies irae…» [61] И он напевал его иногда, прерывая пение, к великому негодованию соседей, громкими раскатами смеха.
Он жил строгой, целомудренной жизнью. Недаром кто-то сказал: «Любовные похождения — занятие праздных и богатых людей». Нужда, вечная погоня за куском хлеба, более чем скромные потребности и лихорадка творчества завладели Кристофом, у него теперь не было ни времени, ни желания думать о наслаждениях. Это было больше чем простое равнодушие; из протеста против Парижа он ударился в своего рода аскетизм. Он ощущал страстную потребность в чистоте, отвращение ко всякой грязи. Это не значило, что он был защищен раз навсегда от страстей. В иные минуты он поддавался им. Но его страсть оставалась целомудренной, даже когда он уступал ей, ибо он искал не наслаждения, а полноты бытия, и дарил себя целиком. И когда замечал, что обманулся в своих ожиданиях, с яростью отворачивался. Похоть Кристоф выделял из всех прочих грехов, как грех поистине смертный, ибо он грязнил самые истоки жизни. Это легко поймут все, в ком древняя христианская основа не окончательно еще погребена под чужеродными наносами, все, кто чувствует себя и поныне сынами могучих племен, ценой героической дисциплины воздвигших западную цивилизацию. Кристоф презирал космополитическое общество, для которого наслаждение было единственной целью, единственным credo. Конечно, благо тем, кто ищет счастья, желает видеть людей счастливыми, борется с принижающими человека пессимистическими верованиями, скопившимися за двадцать веков существования варварского христианства. Но лишь при одном условии — пусть это будет великодушная вера, желающая добра другим. А вместо этого что мы видим? Самый жалкий эгоизм. Горсточка прожигателей жизни старается «извлечь» для своих чувств максимум наслаждений с минимумом риска, вполне мирясь с тем, что все прочие от этого страдают. Знаем мы их салонный социализм!.. Но ведь им-то известно лучше всего, что их учение о наслаждении устраивает лишь жирных «избранных», находящихся на откорме, для бедных же оно — отрава…
«Наслаждения — занятие богачей».
Кристоф не был богачом и не имел к тому ни малейших задатков. Когда ему случалось заработать немного денег, он торопился сейчас же истратить их на наслаждение музыкой, отказывал себе в еде и шел на концерт. Он брал самые дешевые места, на райке театра «Шатле», и насыщался музыкой: она заменяла ему и ужин и любовницу. Он так давно был лишен счастья, так изголодался по нему, так умел наслаждаться им, что даже посредственная игра оркестра не могла его смутить: на два-три часа он погружался в блаженство; даже безвкусица исполнения и фальшивые ноты вызывали у него лишь снисходительную улыбку: он оставлял свою критику за дверью, он приходил сюда любить, а не судить. Вокруг него были люди, которые так же, как и он, не шевелясь, с полузакрытыми глазами, отдавались потокам грез. И чудилось Кристофу — вся эта толпа, забившаяся во мрак, сжавшаяся в комок, похожа на огромного кота, упивающегося сладострастными и кровавыми видениями. В густой золотистой полутьме причудливо вырисовывались чьи-то лица, — загадочная прелесть и безмолвный восторг их привлекали взоры и сердце Кристофа; он тянулся к ним, слушал их ушами и минутами сливался с ними душой и телом. Случалось, что кто-нибудь из сидящих рядом замечал взгляд Кристофа, и тогда завязывалась на короткие часы концерта та смутная близость, что проникает до самых глубин нашего существа, но исчезает бесследно, как только перестает звучать музыка, как только обрывается ток, соединявший души. Состояние это хорошо известно всем, кто любит музыку, особенно когда ты молод и отдаешься своим ощущениям непосредственно: музыка по своей сути до такой степени родственна любви, что насладиться ею сполна можно лишь с другом; и в концерте невольно блуждаешь глазами по рядам кресел в поисках друга, с которым можно было бы разделить слишком огромную для тебя одного радость.
Среди таких друзей на час, которых Кристоф выбирал, чтобы полнее упиться сладостью музыки, его привлекала одна фигура, попадавшаяся ему на глаза на каждом концерте. Это была молоденькая девица, которая, должно быть, обожала музыку, ничего в ней не понимая. У нее был профиль зверька, прямой коротенький носик, еле выдававшийся над линией пухлых губ и нежного подбородка, тонкие приподнятые брови и светлые глаза, — беззаботная мордочка, светящаяся радостью, смехом, невозмутимым спокойствием. Эти испорченные девушки, эти молоденькие парижские работницы лучше всего, быть может, отражают ныне исчезнувшую душевную ясность, ясность античных статуй и мадонн Рафаэля. То лишь краткий миг в их жизни, первое пробуждение страсти, увядание уже близко. Но они изведали, по крайней мере, пусть один, но прекрасный час.
Кристоф с удовольствием смотрел на девушку: хорошенькие лица всегда благотворно действовали на него; он умел любоваться ими без вожделения; черпал в них радость, силу, покой и даже добродетель. Она, само собой разумеется, быстро заметила обращенные на нее взгляды, и между ними, без всякого умысла, возник магнетический ток. А так как они встречались приблизительно на тех же концертах и тех же местах, то скоро узнали вкусы друг друга. При некоторых музыкальных фразах они обменивались понимающими взглядами; если ей особенно нравилось какое-нибудь место, она слегка высовывала кончик языка, точно облизывалась; а желая показать неодобрение, презрительно вскидывала кверху свою хорошенькую мордочку. К этим гримаскам примешивалась небольшая доля невинного актерства, без которого почти не обходятся, когда чувствуют на себе чужие взгляды. При исполнении серьезных пьес девушка любила придать своему лицу сосредоточенное выражение, повернувшись в профиль, вся как бы поглощенная музыкой, но со смеющимися ямочками на щеках, а сама уголком глаза наблюдала, смотрит ли на нее Кристоф. Они очень подружились, хотя не обменялись еще ни одним словом и даже не сделали попытки (Кристоф — по крайней мере) встретиться при выходе.
Наконец случай свел их: на одном вечернем концерте их места оказались рядом. После минутного замешательства они с улыбкой переглянулись, и завязался дружеский разговор. У нее был прелестный голосок, и она наговорила много глупостей о музыке, потому что ничего в ней не понимала, а хотела притвориться понимающей; но зато страстно ее любила. Любила и дрянную и хорошую, и Массне и Вагнера; только посредственная музыка наводила на нее скуку. Музыка была для нее негой; она впивала ее всеми порами своего тела, как Даная {154} золотой дождь. У нее замирало сердце, когда исполняли увертюру к «Тристану», а во время «Героической симфонии» она чувствовала себя добычей, уносимой с поля битвы. Она сообщила Кристофу, что Бетховен был глухой, но что, если бы она знала его, она все равно очень бы его полюбила, несмотря на его ужасное безобразие. Кристоф возразил, что Бетховен вовсе не был так безобразен; тогда они заспорили о красоте и о безобразии, и она согласилась, что все зависит от вкуса: что красиво для одного, может показаться некрасивым другому — «мы не луидоры, чтобы нравиться всем». Кристоф предпочел бы, чтобы она молчала, — так он понимал ее гораздо лучше. Во время исполнения «Смерти Изольды» {155} она протянула ему руку; рука была вся влажная; он держал ее в своей руке до самого конца пьесы: они чувствовали, как текут по их сплетенным пальцам волны симфонии.
61
«День гнева…» (лат.) — слова из реквиема.