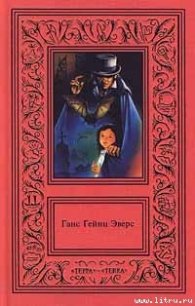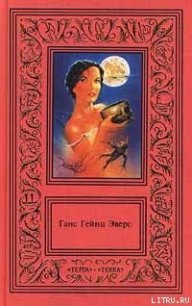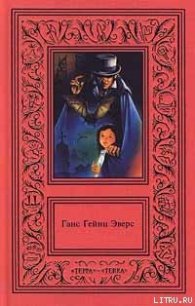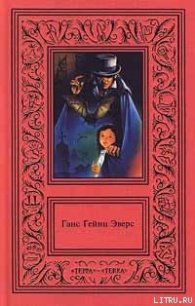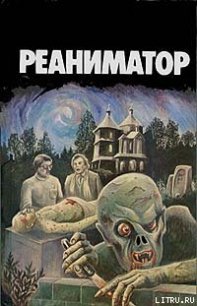Эдгар Аллан По (Фантастическая литература: исследования и материалы, т. III) - Эверс Ганс (книги регистрация онлайн .txt) 📗
Профанам не должно знать, как возникают великие произведения искусства. Художник решает это сам с собой, и никто не вправе что-либо о нем говорить или выносить обвинительный приговор. Лишь немногие любящие его, кому он позволяет ознакомиться со своей работой, могут молча смотреть и после поведать…
Уайльд рассказывает сказку о прекрасной розе [10], выросшей из крови сердца умирающего соловья. Студент, сорвавший ее, дивился: он никогда не видал такой чудесной, кроваво-красной розы. Но он не знал, как возникла эта роза.
Мы восхищаемся Odontoglossum grande [11], самой великолепной из орхидей… но становится ли она менее красивой оттого, что питается насекомыми, которых самым чудовищным образом медленно умерщвляет? Нас радуют прекрасные лилии в парке Синтры; мы поражаемся: о, мы никогда не видали таких больших, таких белых! Какое нам дело до того обстоятельства, что за их необычайную роскошь следует благодарить умелого садовника, который поливает цветы не «естественной» водой, а искусственным раствором гуано, отборного помета?
— Придет время, когда столбовые дороги нашего трезвого искусства, скупо освещенные здесь и там тусклыми фонарями алкоголя, будут вызывать лишь снисходительную улыбку. Время тех, для кого понятия «интоксикация» и «искусство» являются неразрывным целым, кто признает различия лишь в рамках единого великого Rauschkunst [12]. Только тогда первопроходцы будут возведены на достойные их вершины: Гофман, Бодлер, По… художники, что первыми сознательно работали с интоксикацией.

Эдгар Аллан По. Портрет работы Э. Мане.
Будем честны! Существует ли художник, который может полностью обойтись без интоксикации? Не принимают ли все они свои маленькие стимулянты: чай, табак, кофе, пиво или что-то еще? Не должен ли разум быть «отравлен», чтобы создать произведение искусства, будь то путем поглощения яда через тело… или каким-либо иным?
Ибо есть и другие пути…
Искусство противоположно природе. Человек, физически и психологически живущий в полной абстиненции, чьи предки на протяжении долгих поколений жили в такой же абстиненции, чья кровь, в отличие от всех нас, не отравлена, никогда не сможет стать художником — если только некое божественное провидение милостиво не наделит его иными ощущениями, способными вызвать экстаз. Но и они, в сущности — отравление духа! Природа и искусство — злейшие враги: там, где правит одно, другое невозможно.
Что есть художник — в самом узком, истинном смысле этого слова? Пионер культуры в неизведанных землях бессознательного!
Сколь немногие заслуживают в этом святом смысле гордого звания художника! Заслуживал Э. Т. А. Гофман, и Жан Поль, и Вилье [13], и Бодлер… и, конечно же, Эдгар Аллан По; даже Грисуолды обязаны признать это за писателем, проникшим в некоторых своих рассказах в тайную страну души, о которой никто до него — по крайней мере, наука — не имел ни малейшего представления!
В серых облаках тумана расстилается перед нами огромная страна бессознательного, вечная земля наших устремлений. Нищий греется на солнце, сытый богатей ежится у камина. Но кровоточащая, невыносимая тоска заставляет иных людей выйти за пределы известного. Тройная броня мужества должна защищать вашу грудь, когда вы покидаете солнечную землю сознания и правите в Авалон через серые гибельные воды. И многие, многие бесславно гибнут, не сумев даже заглянуть за пелену тумана. Только горстке удается ступить на берег. Они открывают новые земли, они водружают на них знамя культуры: они немного раздвигают границы сознания.
Художники — это первооткрыватели. Вслед за ними человечество отправляет бесчисленные экспедиции для изучения и картографирования новых земель; приходят земельные регистраторы и кадастровые чиновники… мужи науки.
…Разумеется, что помимо других средств, так называемые яды, которые мы именуем наркотиками, способны вывести нас за порог сознания. Если кто-то сумеет прочно закрепиться в этом «иномирье», превратить метафизическое в нечто позитивное, он создаст новую художественную ценность и будет являться, в самом благородном смысле слова, художником.
Стоит ли подчеркивать прописную истину, заключающуюся в том, что в опьянении как таковом нет ни толики творческого? Иными словами, никакой интоксикант не способен извлечь из человека то, чего в нем нет. Никакие Грисуолды и Инграмы, сколько бы вина они ни выпили, сколько бы опиума ни выкурили, сколько ни проглотили бы гашиша, никогда не смогут создать художественную ценность!.. Однако: интоксикация посредством наркотиков способна позднее вызвать экстаз. И в этом экстазе человек создает высшее, на что способен его интеллект.
Грисуолды были правы: Эдгар Аллан По пил. И поскольку — как и у всех нас — организм его, притупленный вековой привычкой к выпивке многих поколений предков, сравнительно слабо реагировал на отравление алкоголем, он пил много. Он напивался. — Но он делал это намеренно, с целью ввести себя в состояние опьянения, на основе которого мог — много позднее, быть может, спустя годы — создать новые художественные ценности. Подобное опьянение — не наслаждение, а чудовищное мучение, и желать его может лишь тот, у кого на лбу горит каинова печать искусства.
— Возможна ли ложь позорнее, чем банальность: «Художественное творчество — это не работа, это радость»?! Ни сказавший это, ни бездумно поддакивающая публика никогда не испытывали и дуновения экстаза, единственного условия возникновения искусства. И этот экстаз всегда является пыткой, даже если — в редких случаях — причиной, вызвавшей его, было наслаждение.
Говорят, кошки с радостью и удовольствием рожают своих детенышей, но потомство их — лишь жалкие слепые котята. Вероятно, автор еженедельных колонок в какой-нибудь «Букстехудер цайтунг» или безвестный виршеплет «Берлина ночью» тоже с радостью и удовольствием изливают свои строки на бумагу… но произведение искусства никогда не рождается без боли.
Я вновь брожу — по могучему дворцу пятого римского императора немецкого народа, носившего имя Карла, вдоль громадной колоннады; поднимаюсь по длинной аллее белокурых акаций, миную лужайки, засеянные тысячами голубых ирисов. Мне открывают, и я вхожу в Башню Принцесс, где дочери султана, Заида, Зораида и Зорагаида, некогда подслушивали у окна песни пленных христианских рыцарей.
Над долиной я вижу холм: там Боабдиль, отправляясь в изгнание, испустил прощальный вздох по утраченной Гранаде [14]. Я смотрю на сады Хенералифе, ясно вижу старые кипарисы, под сень которых Хамет, жена последнего короля мавров, прокралась на роковое свидание с самым прекрасным из Абенсеррахов [15].
— Здесь каждый камень рассказывает смутную, теряющуюся в веках легенду…
В глубине долины вьется дорога, уходящая вверх, к кладбищу. Несколько черных коз пасутся на зеленых склонах; ближе, под Башней Пленницы, сидит перед своим грязным пещерным жилищем служитель в лохмотьях. Вокруг него щиплют траву длинноухие кролики; семь петухов, в ожидании скорого боя уже лишенных гребней и хвостовых перьев, поклевывают землю или, распустив крылья, нападают друг на друга. Далеко на востоке заснеженные дикие вершины Сьерра-Невады полыхают багряным отсветом.
В долине я замечаю кучку оборванцев. Двое несут на плечах маленький детский гробик — открытый, по испанскому обычаю; третий взвалил на плечо крышку. Гроб очень простой, три желтые доски и две доски поменьше. Но внутри цветы, много цветов, красные, желтые, белые и синие цветы. В цветах тонет восковое бледное личико, окаймленное черными волосами. В этой процессии нет ни священника, ни родственников, ни даже отца и матери — лишь шестеро оборванцев…