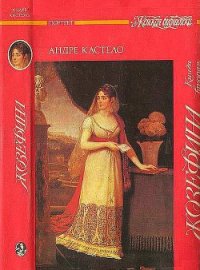Певица Жозефина или Мышиный народ - Кафка Франц (книги хорошего качества .TXT) 📗
Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием – детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости, мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизнерадостную в общем-то и жизнеспособную нашу натуру; возможно, отсюда и нелюбовь к музыке; мы слишком стары для музыки, связанное с ней волнение, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся; недаром мы ограничили себя писком; немного писку от случая к случаю – вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глохнут, не успев о себе заявить.
Жозефине же мы не возбраняем петь или пищать сколько ей вздумается и как бы она это ни называла, – ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем; если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму; таким образом сохраняется известная музыкальная традиция, но она ни в какой мере нас не обременяет.
Но Жозефина дает и нечто большее этому своеобычному народу. На ее концертах, особенно в трудные времена, одна только зеленая молодежь еще интересуется певицей, лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точеные передние зубки, как придя в экстаз от собственных рулад, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит; каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и вволю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет да и вплетается Жозефинин писк; пусть она это называет трелью, а мы – стрекотом, не важно, здесь он на месте, как нигде, как музыке редко выпадает счастье прийтись к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье, но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, непостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулкими, раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И, разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк – язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает, здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Не удивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают и мы стараемся их не пропускать.
Однако от этого до утверждения Жозефины, будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях, а не о Жозефининых льстецах. «А как же! – восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. – Чем же вы объясните наплыв публики, полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаев, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры!» Последнее, к сожалению, справедливо, хоть и не служит к Жозефининой чести, особенно если принять во внимание, что, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом и немало наших платится жизнью, сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманившая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защитою своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда б она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего ни пожелай, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так, можно было бы понять притязания Жозефины: в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, немыслимом ни для кого другого положении, несовместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит; что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком: подобно тому как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особу ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине: быть может, кое в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно, и это верно и в отношении Жозефины.
С давних пор, чуть ли не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы: пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть! Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные – а такие и у нас бывали, – сраженные необычностью этого требования и умонастроения, способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, счесть его законным. Не то народ – он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефинины доводы. Так, Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу; пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого – все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет никакой отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение; она как будто сдается, работает, как полагается, поет, как умеет, но ее хватает ненадолго – глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу, тут ее силы, видимо, неисчерпаемы.
Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы, в нашем народе о лежебоках и слыхом не слыхали; добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни, работа не мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше; единственное, что ей нужно, это публичное непререкаемое, непреходящее признание ее искусства, такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении; может быть, она уже и сама осознала свою ошибку; но путь назад ей закрыт, отступать поздно, это значило бы отречься от себя; поневоле приходится ей с этим пасть или победить.
Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы, и пальцем не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов, а найдись даже у кого-нибудь что ей возразить – не важно; вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную, судейскую позицию, какая ему и несвойственна и наблюдается у нас разве только очень редко, И если даже кто-нибудь в этом частном случае и одобряет позицию народа, то мысль, что это может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь, таким образом, идет не о существе вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем – мало сказать, отеческую – поистине самозабвенную заботу.
Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре: он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками; он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело – то есть, вконец избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дождаться и этого, и наипоследнего требования, а уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет: народу не нужны такие уловки, не говоря уже о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал; к тому же требование Жозефины так несуразно, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь.