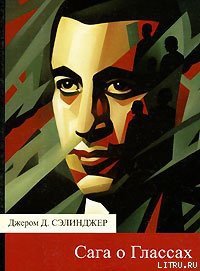Над пропастью во ржи - Сэлинджер Джером Дэвид (книга регистрации .txt) 📗
— Холден! — сказала миссис Спенсер. — Как я рада тебя видеть! Входи, милый! Ты, наверно, закоченел до смерти?
Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила. По крайней мере, мне так казалось.
Я пулей влетел к ним в дом.
— Как вы поживаете, миссис Спенсер? — говорю. — Как здоровье мистера Спенсера?
— Дай твою куртку, милый! — говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата.
Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я пригладил волосы ладонью. Вообще я ношу короткий ежик, мне причесываться почти не приходится.
— Как же вы живете, миссис Спенсер? — спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услыхала.
— Прекрасно, Холден. — Она закрыла шкаф в прихожей. — А ты-то как живешь?
И я по ее голосу сразу понял: видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли.
— Отлично, — говорю. — А как мистер Спенсер? Кончился у него грипп?
— Кончился? Холден, он себя ведет как… как не знаю кто!.. Он у себя, милый, иди прямо к нему.
2
У них у каждого была своя комната. Лет им было под семьдесят, а то и больше. И все-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться — за каким чертом он еще живет. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с первой парты приходится нагибаться и подавать ему. По-моему, это ужасно. Но если не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе не плохо живет. Например, один раз, в воскресенье, когда он меня и еще нескольких других ребят угощал горячим шоколадом, он нам показал потрепанное индейское одеяло — они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже песок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то одеяла.
Дверь к нему была открыта, но я все же постучался, просто из вежливости. Я видел его — он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал.
— Кто там? — заорал он. — Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи!
Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало, серьезно.
Только я вошел — и уже пожалел, зачем меня принесло. Он читал «Атлантик мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка. Тоску нагоняло. Я вообще-то не слишком люблю больных. И все казалось еще унылее оттого, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потертый, старый халат — наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра видны. И ноги жуткие. Видали стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?
— Здравствуйте, сэр! — говорю. — Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. — Он мне написал записку, чтобы я к нему зашел проститься перед каникулами; знал, что я больше не вернусь. — Вы напрасно писали, я бы все равно зашел попрощаться.
— Садись вон туда, мальчик, — сказал старый Спенсер. Он показал на кровать.
Я сел на кровать.
— Как ваш грипп, сэр?
— Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором! — Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать, как сумасшедший. Наконец отдышался и спросил: — А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал?
— Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.
Господи, ну и постель! Настоящий камень!
Он вдруг напустил на себя страшную строгость — я знал, что так будет.
— Значит, ты уходишь от нас? — спрашивает.
— Да, сэр, похоже на то.
Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтобы человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймешь, оттого ли он качает головой, что задумался, или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает.
— А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слыхал, что у вас был долгий разговор.
— Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.
— Что же он тебе сказал?
— Ну… всякое. Что жизнь — это честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что жизнь — это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.
— Но жизнь действительно игра, мой мальчик, и играть надо по правилам.
— Да, сэр. Знаю. Я все это знаю.
Тоже сравнили! Хороша игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, — тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, — какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет.
— А доктор Термер уже написал твоим родителям? — спросил старик Спенсер.
— Нет, он собирается написать им в понедельник.
— А ты сам им ничего не сообщил?
— Нет, сэр, я им ничего не сообщил, увижу их в среду вечером, когда приеду домой.
— Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?
— Как сказать… Рассердятся, наверно, — говорю. — Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвертой школе учусь.
И я тряхнул головой. Это у меня привычка такая.
— Эх! — говорю. Это тоже привычка — говорить «Эх!» или «Ух ты!», отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше. Ужасно нелепо выходит, особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне, справа, миллион седых волос. С самого детства. И все-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят, особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают — веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают.
Старый Спенсер опять начал качать головой. И при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверно, он думал, что это можно, потому что, кроме меня, никого тут не было. Мне-то все равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу.
Потом он заговорил:
— Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди.
— Да, конечно. Они хорошие.
«Изумительные». Ненавижу это слово! Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова.
И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате — это уж слишком. Не хотелось слушать.
Тут и началось.
— Что ты с собой делаешь, мальчик? — сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго, так он раньше не разговаривал. — Сколько предметов ты сдавал в этой четверти?
— Пять, сэр.
— Пять. А сколько завалил?
— Четыре. — Я поерзал на кровати. На такой жесткой кровати я еще никогда в жизни не сидел. Английский я хорошо сдал, потому что я учил Беовульфа и «Лорд Рэндал, мой сын» и всю эту штуку еще в Хуттонской школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения.