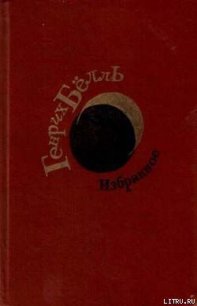Михаэль Кольхаас - фон Клейст Генрих (читаемые книги читать .txt) 📗
Кольхаас, увидев на руке старухи перстень с печаткой, а на шее коралловое ожерелье, принял ее за ту самую цыганку, что дала ему записку в Ютербоке; но поскольку правдоподобие не всегда состоит в союзе с правдой, то здесь и произошел некий казус, о котором мы поведаем читателям, предоставив каждому, кто пожелает, полную свободу в таковом усомниться. Дело в том, что камергер, как оказалось, совершил отчаянную промашку и, погнавшись на улицах Берлина за старухой ветошницей, которой он прочил роль цыганки, изловил ту самую таинственную ворожею из Ютербока.
Так или иначе, но старуха на костылях, лаская детишек, пораженных ее странным видом и в испуге прижимавшихся к отцу, рассказала, что уже довольно давно воротилась из Саксонии в Бранденбургское курфюршество и, услышав, как камергер на улицах Берлина, не блюдя осторожности, наводит справки о цыганке, весною прошлого года находившейся в Ютербоке, немедленно к нему протиснулась и, назвавшись вымышленным именем, вызвалась выполнить его поручение. Кольхаасу бросилось в глаза непостижимое сходство цыганки с его покойной женою Лисбет, такое сходство, что он едва удержался, чтобы не спросить, уж не приходится ли она ей бабушкой, ибо не только черты ее лица, но и руки, все еще красивые, и прежде всего жесты этих рук, когда она говорила, воскрешали в его памяти Лисбет, даже родинку, так красившую шею его жены, заметил он на морщинистой шее старухи. Кольхаас — мысли у него как-то странно путались — усадил ее на стул и спросил, что ж это за дела такие, да еще связанные с камергером, привели ее к нему. Старуха, гладя любимую собаку Кольхааса, которая обнюхивала ее колени и виляла хвостом, отвечала, что камергер поручил ей разведать, какой же ответ содержится в записке на три таинственных вопроса, столь важных для саксонского двора, далее — предостеречь его, Кольхааса, от некоего человека, присланного в Берлин, чтобы, пробравшись в тюрьму, выманить записку под предлогом, что у него она будет сохраннее, нежели на груди у Кольхааса. Пришла же она сюда с намерением сказать ему, что угроза хитростью или силой отнять у него записку
— нелепица и заведомая ложь; что ему, находящемуся под защитой курфюрста Бранденбургского, нечего опасаться этого человека и, наконец, что у него на груди записка будет целее, чем даже у нее, только пусть остерегается, чтобы никто и ни под каким видом ее у него не отнял. Тем не менее, закончила старуха, ей кажется разумным использовать записку для той цели, какую она имела в виду, вручая ему в Ютербоке этот клочок бумаги, призадуматься над предложением, сделанным через охотничего фон Штейна, и записку, для него, Кольхааса, уже бесполезную, выменять у курфюрста Саксонского на жизнь и свободу.
Кольхаас, ликуя, что ему дарована сила смертельно ранить врага, втоптавшего его в прах, воскликнул:
— Ни за какие блага мира, матушка! — Засим, пожав руку старухи, полюбопытствовал, что же за ответы и на какие такие грозные вопросы стоят в этой записке.
Цыганка взяла на колени младшего его сынка, пристроившегося было на полу у ее ног, и проговорила:
— Блага мира тут ни при чем, Кольхаас, лошадиный барышник, а вот благо этого белокурого мальчугана… — Она рассмеялась, лаская и целуя ребенка, смотревшего на нее широко раскрытыми глазами, потом костлявыми своими руками протянула ему яблоко, вынутое из кармана.
Кольхаас в волнении сказал, что дети, будь они постарше, одобрили бы его поступок и что именно в заботе о них и о будущих внуках он долгом своим почитает сохранить эту записку. Ибо кто же после горького опыта, им приобретенного, убережет его от нового обмана, и не пожертвует ли он запиской для курфюрста так же бесцельно, как пожертвовал для него своим военным отрядом в Лютцене.
— Кто однажды нарушил слово, — добавил он, — с тем я больше в переговоры не вступаю; и только ты, матушка, прямо и честно можешь сказать, надо ли мне расстаться с листком, столь чудесным образом вознаградившим меня за все, что я претерпел?
Старуха, спустив с колен ребенка, отвечала, что кое в чем он прав и, конечно, волен поступать, как ему заблагорассудится. С этими словами она взяла костыли и направилась к двери. Кольхаас повторил свой вопрос касательно содержания загадочной записки, и, когда старуха нетерпеливо ему ответила, что он ведь может ее распечатать, хотя это и будет пустое любопытство, пожелал узнать еще и многое другое: кто она, как пришло к ней ее искусство, почему она не отдала курфюрсту записку, собственно для него предназначавшуюся, и среди многих тысяч людей избрала именно его, Кольхааса, никогда прорицаниями не интересовавшегося, и ему вручила чудесный листок. Но тут вдруг на лестнице послышались шаги тюремной стражи, и старуха, боясь, что ее здесь застанут, торопливо проговорила:
— До свидания, Кольхаас! Когда мы снова встретимся, ты все узнаешь! — Затем, идя к двери, воскликнула: — Прощайте, детки, будьте счастливы! — перецеловала малышей всех подряд и вышла.
Тем временем курфюрст Саксонский, терзаемый мрачными мыслями, призвал к себе двух астрологов, Ольденхольма и Олеариуса, в ту пору весьма почитаемых в Саксонии, надеясь от них узнать содержание таинственной записки, столь важной для всего его рода и потомства. Но так как сии ученые мужи после нескольких дней, проведенных на башне Дрезденского замка за чтением звезд, не смогли прийти к согласию, относится ли пророчество к последующим столетиям или же к настоящему времени и не подразумевает ли оно королевство Польское, отношения с коим все еще оставались неприязненными, то этот ученый спор не только не развеял тревоги, чтобы не сказать отчаяния, несчастного властителя Саксонии, но, напротив, усугубил ее, сделал и вовсе непереносимой. К этому еще добавилось, что камергер поручил своей жене, собиравшейся к нему в Берлин, осторожно сообщить курфюрсту о неудавшейся попытке завладеть запиской с помощью одной женщины, которая с тех пор как в воду канула. Принимая во внимание все эти обстоятельства, приходится оставить всякую надежду раздобыть злосчастную записку, тем паче что после всестороннего обсуждения дела курфюрст Бранденбургский подписал смертный приговор Кольхаасу и казнь назначена на понедельник после Вербного воскресенья.
Услышав это, курфюрст себя не помнил от горя и раскаяния; жизнь ему опротивела: запершись в опочивальне, он в течение двух дней не притрагивался к пище, но на третий, не давая никаких объяснений кабинету, вдруг заявил, что уезжает на охоту к принцу Дессаускому, и исчез из Дрездена. Вопрос о том, направился ли он в Дессау или куда-нибудь еще, мы оставляем открытым, ибо старинные хроники, из сопоставления коих мы почерпаем материал для нашей повести, в этом пункте странным образом одна другой противоречат. Установлено лишь, что принц Дессауский не мог быть на охоте, так как в это время лежал больной в Бранденбурге у своего дядюшки герцога Генриха, а также, что госпожа Элоиза вечером следующего дня в сопровождении некоего графа фон Кенигштейна, которого она выдавала за своего двоюродного брата, прибыла в Берлин, где ее дожидался супруг, господин Кунц.
Тем временем Кольхаасу был уже зачитан смертный приговор, с него сняли оковы и возвратили отобранные было в Дрездене документы, касающиеся его имущества; когда же советники, направленные к нему судом, спросили, как желает он распорядиться своим достоянием, Кольхаас с помощью нотариуса составил завещание в пользу своих детей, а опекуном над ними назначил доброго старого друга — амтмана из Кольхаасенбрюкке. Посему спокойствием и безмятежностью были исполнены его последние дни; тем более что курфюрст распорядился открыть темницу и предоставить право друзьям Кольхааса, которых в городе у него было великое множество, посещать его днем и ночью. Но еще большее удовлетворение суждено было испытать Кольхаасу, когда в тюрьму к нему явился богослов Якоб Фрейзинг, посланный доктором Лютером с собственноручным и, без сомнения, весьма примечательным письмом последнего, к сожалению, до нас не дошедшим, который в присутствии двух бранденбургских деканов причастил его святых тайн.