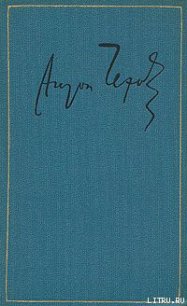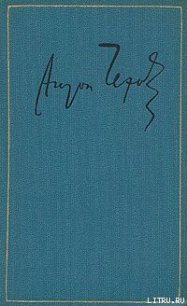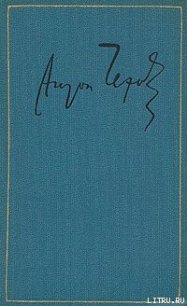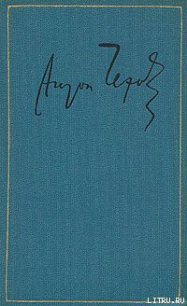Рассказы. Юморески. 1883—1884 - Чехов Антон Павлович (список книг txt) 📗
Катя робко поглядела в глаза Груздеву. Глаза честные, теплые, искренние — так показалось ей. А эти падшие создания так и лезут на честные глаза, лезут и налетают, как мотыльки на огонь. Кашей их не покорми, а только взгляни на них потеплей. Катя, теребя бахрому от скатерти, конфузливо рассказала Груздеву свою жалкую повесть. Повесть самая обыкновенная, подлая: он, обещание, надувательство и проч.
— Какой же он подлец! — проворчал Груздев, негодуя. — Есть же такие мерзавцы, чёрт бы их взял совсем! Богат он, что ли?
— Да, богат…
— Так и знал… И вы-то хороши, нечего сказать. Зачем вы, бабы, деньги так любите! На что они вам?
— Он побожился, что на всю жизнь обеспечит, — прошептала Катя. — А разве это плохо? Я и польстилась… У меня мать старуха.
— Гм… Несчастные вы, несчастные! А всё по глупости, по пустоте… Малодушны все вы, бабы!.. Несчастные, жалкие… Послушай, Катя! Не мое это дело, не люблю вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое несчастное, что нет сил не вмешаться! Катя, отчего ты не исправишься? Как тебе не стыдно? По всему ведь видно, что ты еще не совсем погибла, что возврат еще возможен… Отчего же ты не постараешься стать на путь истинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные… И улыбаешься ты как-то особенно симпатично…
Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов. Говорил он тихо, дрожащим тенором, со слезами на глазах… Его горячее дыхание обдавало всё ее лицо, шею…
— Можно исправиться, Катя! Ты так молода еще… Попробуй!
— Я уже пробовала, но… ничего не вышло. Всё было… Раз пошла даже в горничные, хоть… и дворянка я! Думалось исправиться. Лучше самый грязный труд, чем наше дело. Я к купцу поступила… Жила месяц, и ничего, можно жить… Но хозяйка приревновала к хозяину, хотя я и внимания на него не обращала, приревновала, прогнала, места нет и… опять пошло сначала… Опять!
Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то: испугался, должно быть. Мелкий, истерический плач понесся сквозь все тонкие номерные перегородки. Груздев бросился за водой. Через десять минут Катя лежала на диване и рыдала:
— Подлая я, гадкая! Хуже всех на свете! Никогда я не исправлюсь, никогда не исправлюсь, никогда не сделаюсь порядочной! Разве я могу? Пошлая! Стыдно тебе, больно? Так тебе и следует, мерзкая!
Катя сказала немного, меньше Груздева, но понять можно было многое. Она хотела прочесть целую исповедь, так хорошо знакомую каждому «честному развратнику», но не получилось из ее речи ничего, кроме нравственных самопощечин. Всю душу себе исцарапала!
— Пробовала уже, но ничего не выходит! Ничего! Всё одно погибать! — кончила она со вздохом и поправила свои волосы.
Молодой человек взглянул на часы.
— Не быть из меня толку! А вам спасибо… Я первый раз в жизни слышу такие ласковые слова. Вы один только обошлись со мной по-человечески, хоть я и беспорядочная, гадкая…
И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь ее мозг молнией пробежал один маленький роман, который она читала когда-то, где-то… Герой этого романа ведет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обращает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей подругой… Катя задумалась. Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев? Что-то похоже… Даже очень похоже. Она с стучащим сердцем стала смотреть на его лицо. Слезы ни к селу ни к городу опять полились из ее глаз.
— Ну, полно, Катя, утешься! — вздохнул Груздев, взглянув на часы. — Исправишься, бог даст, коли захочешь.
Плачущая Катя медленно расстегнула три верхние пуговки шубки. Роман с красноречивым героем стушевался из ее головы…
В вентиляцию отчаянно взвизгнул ветер, точно он первый раз в жизни видел насилие, которое может совершать иногда насущный кусок хлеба. Наверху, где-то далеко за потолком, забренчали на плохой гитаре. Пошлая музыка!
Двадцать шесть
2-го того же мес. Пообедав, размышлял о плачевном состоянии западноевропейских финансов. Пригласил в экономки.
18-го июня. Бунтовала за обедом. Переживает, по-видимому, душевный переворот. Боюсь, чтоб не амуры. Читал в «Голосе» передовую статью… Нельзя-с!!!
4-го декабря. Всю ночь хлопали калиткой. В пять часов утра видел канцеляриста Карявова выходящим из моего двора. На мой вопрос, зачем он здесь, Карявов смутился. На что-то покуситься хотел, шельма. Надо будет уволить.
28-го того же мес. Бунтовала весь день. Кой чёрт это шляется? Поймал в деле № 1302 мышь. Убил.
Новый год. Принимал поздравления. Преподнес ей для назидания душеполезную книгу. Весь день бунтовала. Находясь в унынии, писал сочинение: «О нападении печенегов на Уфимскую губернию». Видел видение.
4-го того же мес. Разорвала и книгу и мое сочинение. Приказала воротить Карявова. Исполню, душенька! Вечером бунтовала, рвала мои бумаги, падала в гистерику и объявила, что на днях уезжает в Самарскую губ. лечиться от грудей. Не пущу!!
6-го февраля. Уехала!! Лежал целый день на ее кровати, плакал и так рассуждал: «Она здорова, следственно не лечиться поехала. Тут другая статья: амуры. Подозреваю, что увлечена одним из моих молокососов канцелярских. Но с кем и как? Узнаю завтра, ибо виновник попросится в отпуск, дабы к ней поехать. Он, шельма, подает мне прошение об отпуске, а я его… цап!! Ночью не хлопали калиткой, а все-таки спал плохо. Несмотря на уныние, размышлял о бедственном состоянии Франции. Видел два видения сразу. Господи, прости нас, грешных!
7-го февраля. Подано двадцать шесть прошений об отпуске. Все!!! Постой же… Просятся в Кронштадт. Так вот она где, эта Самарская губ.! Постой же…
8-го того же мес. Не менее скорблю. Пребываю в унынии. Разнес всех и вся. Вся канцелярия вспотела — не до любви ей теперь. Видел во сне Кронштадт.
14-го того же мес. Вчера, в воскресенье, Карявов ездил куда-то за город, сегодня же ходит по канцелярии и саркастически улыбается… Уволю.
25-го того же мес. Получил от нее письмо. Приказывает прислать денег и снова принять на службу Карявова. Исполню, душенька! Дожидайся! Вчера еще трое ездили за город… Чьей-то калиткой хлопают они теперь?
Теща-адвокат
Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла теща.
— Я задержу вас, Мишель, минут на пять, — сказала она. — Не хмурьтесь, мой друг… Я знаю, что зятья не любят говорить с тещами, но мы, кажется… сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди… У нас много общего… Ведь да?
Теща и зять уселись на диване.
— Чем могу быть полезен, муттерхен? [38]
— Вы умный человек, Мишель, очень умный; я тоже… неглупа… Мы поймем друг друга, надеюсь. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, mon petit [39]… Скажите мне откровенно, ради… ради всего святого, что вы хотите сделать с моей дочерью?
Зять сделал большие глаза.
— Я, знаете ли, согласна… Пусть! Почему же? Наука вещь хорошая, без литературы нельзя… Поэзия ведь! Я понимаю! Приятно, если женщина образованна… Я сама воспитывалась, понимаю… Но для чего, mon ange [40], крайности?
— То есть? Я не совсем вас понимаю…
— Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе! Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? Она ваша жертва! Науки, книги там, теории разные… Всё это очень хорошие вещи, но, мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь! Я не позволю! Она моя плоть и кровь! Вы убиваете ее! Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку! Целый день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые журналы! Бумаги какие-то переписывает! Разве это женское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить! Она у вас не видит общества, не танцует! Невероятно даже! Ни разу за всё время не была на балу! Ни ра-зу!
38
мамочка (нем. Mutterchen)
39
дитя мое (франц.)
40
мой ангел (франц.)