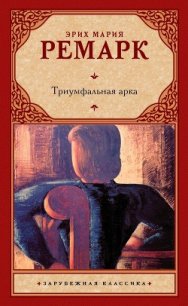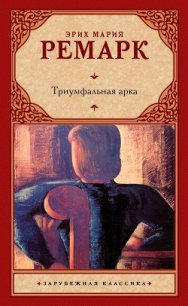Триумфальная арка - Ремарк Эрих Мария (книги бесплатно читать без .txt) 📗
– Когда эти мсье съехали, я все припрятала, – сказала она. – В настоящее время правительства держатся недолго. Как видите, я не ошиблась, – вот они и пригодились. В нашем деле нужна дальновидность.
Она распорядилась, как развесить портреты. Троцкого отправила обратно в подвал. Троцкий не внушал ей никакого доверия. Равик осмотрел заклеенный наполовину портрет. Отодрав бумагу, он обнаружил улыбающегося Троцкого. Очевидно, репродукцию заклеил сторонник Сталина.
– Вот, – сказал Равик. – Снова Троцкий, замаскированный. Снято еще в добрые старые времена.
Хозяйка повертела в руках репродукцию.
– Можно выбросить. Не имеет никакой цены. Одна половина непрерывно оскорбляет другую. – Она передала репродукцию слуге. – А рамку оставь, Адольф. Она из добротного дуба.
– Что же вы намерены делать с остальными? – спросил Равик. – С альфонсами и франко?
– Отправим в подвал. А вдруг опять понадобятся.
– У вас не подвал, а чудо. Временный пантеон. Там есть еще какие-нибудь портреты?
– О, разумеется! Есть еще русские – несколько портретов Ленина, в картонных рамках, ведь надо же что-то иметь про запас… И еще есть портреты последнего царя. Остались от русских эмигрантов, которые умерли в моем отеле. Есть даже великолепный оригинал, написанный маслом и оправленный в тяжелую золоченую раму. Его привез один мсье. Потом он покончил жизнь самоубийством. Есть также итальянцы. Два Гарибальди, три короля и слегка подпорченный Муссолини на газетной бумаге. Еще тех времен, когда он был социалистом и жил в Цюрихе. Интересен как уникальный экземпляр. А так его все равно никто не хочет вешать на стенку!
– А немцы у вас есть?
– Есть несколько портретов Маркса, их больше всего. Затем Лассаль, Бебель… Групповой снимок – Эберт, Шейдеман, Носке и другие. Носке кто-то замазал чернилами. Мне сказали, что он стал нацистом.
– Правильно. Можете повесить его вместе с социалистом Муссолини. А из других немцев никого нет?
– Как же! Один Гинденбург, один кайзер Вильгельм, один Бисмарк и… – хозяйка улыбнулась, – даже Гитлер в плаще… Так что мы совсем неплохо укомплектованы.
– Как? – удивился Равик. – Гитлер? Откуда он у вас?
– Его оставил какой-то гомосексуалист. По имени Пуци. Приехал сюда в 1934 году, когда в Германии убили Рема и остальных. Все время чего-то боялся и без конца молился. Потом его увез какой-то богатый аргентинец. Хотите взглянуть на Гитлера? Он в подвале.
– Не сейчас и не в подвале. Предпочитаю посмотреть на него, когда все ваши комнаты будут увешаны портретами в том же духе.
Хозяйка пристально взглянула на него.
– Ах вот что! Вы хотите сказать, когда нацисты прибудут сюда как эмигранты?
У «Шехерезады» стоял Борис Морозов в расшитой золотом ливрее. Он открыл дверцу такси. Из машины вышел Равик. Морозов ухмыльнулся.
– А мне показалось, ты решил больше здесь не бывать.
– Я и не хотел.
– Это я его заставила, Борис. – Кэт обняла Морозова. – Слава Богу, я опять с вами!
– У вас русская душа, Катя. Одному Богу известно, почему вам суждено было родиться в Бостоне. Проходи, Равик. – Морозов распахнул входную дверь.
– Человек велик в своих замыслах, но немощен в их осуществлении. В этом и его беда, и его обаяние.
«Шехерезада» была отделана под восточный шатер. Русские кельнеры в красных черкесках, оркестр из русских и румынских цыган. Посетители сидели на диване, тянувшемся вдоль всей стены. Рядом стояли круглые столики со стеклянными плитами, освещаемыми снизу. В зале царил полумрак и было довольно людно.
– Что вы будете пить, Кэт? – спросил Равик.
– Водку. И пусть играют цыгане. Хватит с меня «Сказок Венского леса» в ритме военного марша. – Она скинула туфли и забралась с ногами на диван. – Усталость уже прошла, Равик, – сказала она. – Несколько часов в Париже – и я совсем другая. Но меня все еще не покидает ощущение, будто я бежала из концлагеря. Представляете себе?
Равик посмотрел на нее.
– Да… в общем представляю.
Кельнер принес небольшой графин водки. Равик наполнил рюмки и одну из них подал Кэт. Она поспешно, словно утоляя жажду, выпила водку, поставила рюмку на стол и огляделась.
– «Шехерезада» – затхлая дыра, здесь все словно нафталином пересыпано,
– сказала Кэт и улыбнулась. – Но по ночам она преображается в волшебную пещеру снов и грез.
Кэт откинулась на спинку дивана. Мягкий свет, лившийся из-под столика, освещал ее лицо.
– Равик, почему ночью все становится красочнее? Все кажется каким-то легким, доступным, а недоступное заменяешь мечтой. Почему?
Он улыбнулся.
– Только мечта помогает нам примириться с действительностью.
Музыканты начали настраивать инструменты. Вспорхнули квинты и скрипичные пассажи.
– Вы не похожи на человека, опьяняющего себя мечтой, – сказала Кэт.
– Можно опьяняться и правдой. Это еще опаснее.
Зазвучала музыка. Сначала только цимбалы. Мягкие замшевые молоточки тихо, почти неслышно вы – хватили из сумрака мелодию, взметнули ее нежным глиссандо и, помедлив, передали скрипкам.
Цыган, неторопливо пройдя через весь зал, подошел к их столику. Он стоял улыбаясь и прижимая скрипку к подбородку; нагловатые глаза, рассеянно-хищное выражение лица. Без скрипки он походил бы на торговца скотом. Со скрипкой он был посланцем бескрайних степей, чарующих вечеров, необъятных далей – всего, что никогда не станет явью.
Кэт ощущала мелодию всей кожей, ей казалось, будто апрельская ключевая вода пощипывает плечи. Захотелось услышать чей-то зов и откликнуться, но никто не звал. Слышалось смутное звучание чьих-то голосов, мелькали обрывки расплывчатых воспоминаний, чудилось сверкание переливчатой парчи, но все уносилось вихрем, и не было никого, и никто не звал.
Цыган поклонился. Равик сунул ему кредитку. Кэт встрепенулась.
– Вы были когда-нибудь счастливы, Равик?
– Был, и не один раз.
– Я не о том. Я хочу сказать – счастливы по-настоящему, самозабвенно, до потери сознания, всем своим существом.
Равик смотрел на узкое взволнованное лицо женщины, знавшей лишь самую зыбкую разновидность счастья – любовь.
– Не один раз, Кэт, – сказал он, имея в виду нечто совсем иное и зная, что и это иное не было счастьем.
– Вы не хотите меня понять. Или не хотите говорить об этом. Кто там поет под оркестр?
– Не знаю. Я здесь давно уже не был.
– Ее не видно отсюда, и среди цыган ее нет. Вероятно, сидит за каким-нибудь столиком.
– Возможно, одна из посетительниц. Здесь это часто бывает.
– Странный голос, – проговорила Кэт. – Педальный и мятежный.
– Это песни такие.
– Или я такая… Вы понимаете слова?
– «Я вас любил…» – романс на стихи Пушкина.
– Вы знаете русский?
– Так, насколько меня обучил ему Морозов. Главным образом ругательства. В этом смысле русский – просто выдающийся язык.
– Вы не любите говорить о себе, не правда ли?
– Я даже думать не люблю о себе.
Кэт помолчала.
– Порою мне кажется, что прежняя жизнь кончилась, – сказала она. – Беспечность, надежды – все это уже позади.
Равик улыбнулся.
– Она никогда не кончится, Кэт. Жизнь слишком серьезная вещь, чтобы кончиться прежде, чем мы перестанем дышать.
Она не слушала его.
– Меня часто мучает страх, – сказала она. – Внезапный, необъяснимый страх. Кажется, выйдем отсюда и увидим весь мир в развалинах. Вам знакомо такое ощущение?
– Да, Кэт. Оно знакомо каждому. Вот уже двадцать лет, как вся Европа поражена этой болезнью. Она не ответила, прислушиваясь к песне.
– А теперь уже не по-русски, – сказала она.
– Да, по-итальянски. «Санта Лючия».
Луч прожектора скользнул от скрипача к столику около оркестра, и Равик увидел певицу. Это была Жоан Маду. Она сидела за столиком, опираясь на него рукой, и, словно в раздумье, глядела прямо перед собой, будто была совсем одна в этом большом зале. В резком белом свете лицо ее казалось очень бледным. В нем не осталось и следа от бесцветного, стертого выражения, знакомого Равику. Сейчас оно было озарено какой-то волнующей, погибельной красотой, и он вспомнил, что однажды уже видел его таким – ночью, в ее комнате, но тогда он приписал это легкому дурману опьянения, и все тотчас погасло, исчезло. И вот снова то же лицолицо, теперь еще более прекрасное.