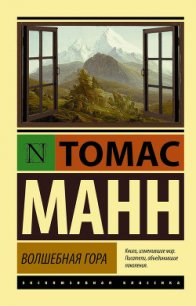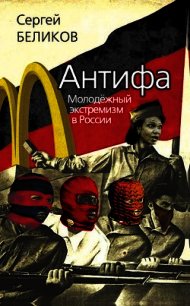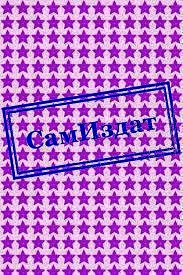Волшебная гора. Часть II - Манн Томас (книги онлайн txt) 📗
— …Прекрасная старинная мебель, — перечислял Ганс Касторп, — «Пиета» четырнадцатого века… Венецианская люстра… маленький гайдук в ливрее… и шоколадного торта сколько душе угодно… Сам-то по себе…
— Сам-то по себе, — подхватил Сеттембрини, — господин Нафта такой же капиталист, как я.
— Но? — настаивал Ганс Касторп. — За вашими словами должно последовать какое-то «но», господин Сеттембрини.
— Что ж, эта публика не позволит нуждаться никому из своих.
— Какая публика?
— Ну, отцы.
— Отцы? Какие отцы?
— Да иезуиты же, инженер!
Последовало молчание. Братья остолбенели. Наконец Ганс Касторп воскликнул:
— Как, черт побери, — так он иезуит?
— Вы угадали, — не без иронии подтвердил Сеттембрини.
— Никогда в жизни я бы не… Кто бы мог подумать! Так вот почему вы величали его падре?
— Небольшое, продиктованное учтивостью преувеличение, — отвечал Сеттембрини. — Господин Нафта не принял сана. В том, что он пока еще не падре, повинна его болезнь. Но он прошел искус и дал первые обеты. Болезнь вынудила его прервать занятия теологией. Потом он несколько лет был префектом в орденской школе, то есть надзирателем, наставником, воспитателем юных питомцев. Это отвечало его педагогическим склонностям. Он может и здесь продолжать любимое дело, преподавая латынь в Фридерициануме. Он уже пять лет как находится тут. И разрешат ли ему когда-нибудь, и когда именно, отсюда уехать — совершенно неизвестно. Однако он член ордена и, если бы даже был менее тесно с ним связан, никогда не будет ни в чем нуждаться. Я сказал вам, что сам по себе он беден, вернее не имеет никакой собственности. Как же иначе, таков устав. Зато орден располагает несметными богатствами и, как видите, неплохо печется о своих.
— Господи! — пробормотал Ганс Касторп. — Вот уж никак не думал и не предполагал, что подобное все еще существует! Иезуит! Ну и ну!.. Но объясните мне вот что: если о нем так хорошо пекутся оттуда, какого черта он живет… Я не хочу сказать ничего худого о вашей квартире, господин Сеттембрини, вы чудесно устроены у Лукачека, так укромно и уютно. Но все-таки, если у Нафты, грубо говоря, денег куры не клюют — почему он не снимет себе квартиру поприличнее, в хорошем доме, с порядочной лестницей и большими комнатами? В том, что он сидит в этой дыре, со всем своим штофом, есть даже что-то таинственное, почти авантюристическое…
Сеттембрини пожал плечами.
— Надо думать, ему это предписывают чувство такта и личный вкус. Он, как я понимаю, успокаивает свою антикапиталистическую совесть, живя в комнате бедняка, и возмещает себе урон образом жизни, которого придерживается. Известную роль играет также осторожность. Незачем афишировать, как хорошо о тебе печется нечистый. Вот он и прикрывается неказистым фасадом, а за ним дает волю своим поповским пристрастиям к шелкам и бархату.
— Непостижимо! — сказал Ганс Касторп. — Совершенно ново для меня, меня это, признаться, даже взволновало. Нет, мы бесконечно обязаны вам, господин Сеттембрини, за это знакомство. Как хотите, но мы не раз еще побываем у вас в доме и навестим господина Нафту. Решено и подписано. Такие встречи необыкновенно расширяют кругозор, позволяют заглянуть в мир, о существовании которого не имеешь ни малейшего представления. Настоящий иезуит! Но говоря «настоящий», я тем самым ловлю себя на мысли, которая только сейчас пришла мне в голову и которую непременно надо выяснить. Я задаю себе вопрос: да настоящий ли он? Я знаю, вы считаете, что тот, о ком тайно печется нечистый, вообще не может быть таким, каким следует быть. Но я имею в виду другое: таков ли он, каким следует быть иезуиту, — вот что пришло мне в голову. Он наговорил таких вещей — вы знаете, что я имею в виду, — о христианском коммунизме и религиозном рвении пролетариата, который не побоится обагрить руки кровью, — словом, вещи, по сравнению с которыми ваш дед с его копьем гражданина был, простите, сущим агнцем. Позволительно ли это? Одобряет ли подобные взгляды его начальство? Согласуются ли они с учением римско-католической церкви, которое орден путем всяких козней и интриг старается распространить по всему свету, как я слышал? Не есть ли это, что называется — ну, ересь, вывих, отступничество? Вот о чем я спрашиваю себя относительно Нафты и очень хотел бы услышать ваше мнение.
Сеттембрини улыбнулся.
— Ничего мудреного тут нет. Господин Нафта, конечно, прежде всего иезуит, настоящий, до мозга костей. Но, во-вторых, он человек умный — иначе я но ценил бы его общества — и как таковой ищет новых комбинаций, новых способов приспособиться, приладиться, новых созвучных времени вариантов. Вы видели, что он и меня удивил своими теориями. Впервые он так при мне разоткровенничался. Присутствие ваше явно его вдохновило, и я воспользовался случаем, чтобы его раздразнить, заставить высказаться до конца по некоторым вопросам. Это звучало довольно-таки забавно, довольно-таки чудовищно…
— Да, да, но почему же все-таки он не стал патером? Он ведь мог бы по своему возрасту?
— Я же вам говорил, этому помешала болезнь.
— Хорошо, но не считаете ли вы, что если он прежде всего иезуит, а во-вторых, умный человек с комбинациями — что это второе, привходящее обстоятельство связано с его болезнью?
— Что вы хотите этим сказать?
— Нет, нет, господин Сеттембрини. Я хочу только сказать, что у него влажный очажок и это-то и помешало ему стать патером. Но и комбинации его тоже, вероятно, помешали бы, таким образом и комбинации и влажный очажок в какой-то мере связаны друг с другом. Он тоже, в своем роде, как бы трудное дитя жизни, joli jesuite с petite tache humide. [58]
Они дошли до санатория. Перед тем как расстаться, они еще постояли немного кружком на площадке перед домом, и двое-трое слонявшихся у подъезда больных издали наблюдали за их беседой. Сеттембрини сказал:
— Итак, я еще раз предостерегаю вас, мои юные друзья. Я не могу запретить вам продолжать это знакомство, если вас одолевает любопытство. Но вооружите сердце и ум недоверием, пусть никогда не иссякнет в вас дух критического отпора. Я охарактеризую вам этого человека одним словом. Он сладострастник.
На лицах обоих братьев отразилось сильнейшее изумление. А Ганс Касторп переспросил:
— Что?.. Как вы сказали? Но позвольте, он же член ордена. Там приносят известные обеты, насколько я знаю, и к тому же он такой мозглявый и худосочный…
— Не мелите вздора, инженер, — возразил Сеттембрини. — Худосочие тут ни при чем, а что касается обетов, то имеются мысленные оговорки. Но я говорил в более широком, духовном смысле и полагал, что вы способны меня понять. Помните, как я вас однажды навестил в вашей комнате — это было давно, страшно давно, — вы проходили курс постельного режима после принятия вас в санаторий…
— Разумеется! Вы вошли, когда уже стемнело, и зажгли свет, я как сейчас помню…
— Ну так вот, тогда в беседе, как это, слава богу, часто случается, мы коснулись с вами высоких предметов. Мы говорили, помнится мне, о жизни и смерти, о благолепии смерти, поскольку она условие и принадлежность жизни, и о страшной личине, в какой она является нам, лишь только дух превратно ее обособляет, превращает в самодовлеющий принцип! Господа! — продолжал Сеттембрини, наступая на молодых людей и, как вилкой, тыча в них большим передним пальцами левой руки, чтобы лучше овладеть их вниманием, и предостерегающе подымая указательный палец правой… — Запомните, дух суверенен, воля его свободна, и это он определяет нравственный мир. Но достаточно духу дуалистически обособить смерть, и смерть по воле духа становится, действительно и на деле, actu, вы понимаете меня, самодовлеющей, враждебной жизни силой, сатанинским принципом, великой искусительницей, и царство ее — сладострастие. Вы спросите меня, почему сладострастие? Я отвечу: потому что она освобождает и избавляет, потому что она избавление, но не избавление от лукавого, а лукавое избавление. Она освобождает от морали и нравственности, избавляет от выдержки и твердости, дает простор сладострастию. Если я предостерегаю вас от этого человека, с которым свел вас помимо воли, если я призываю вас при встречах с ним трижды опоясать свое сердце стальным поясом критики, то лишь потому, что все мысли его исполнены сладострастия, ибо они стоят под эгидой смерти, — а смерть в высшей степени распутная сила, как я вам однажды уже доложил, инженер, — я хорошо помню, что употребил это выражение, так как всегда храню в памяти точные и меткие эпитеты, которые мне случается употреблять, — сила, направленная против нравственности, прогресса, труда и жизни, и благороднейшая задача всякого наставника уберечь молодые умы от ее тлетворного дыхания.
58
Хорошенький иезуит с влажным очажком (франц.)