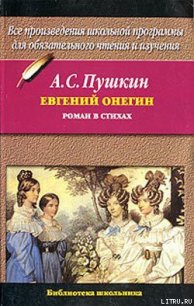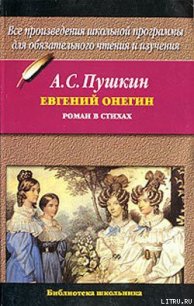Тайные записки 1836-1837 годов - Пушкин Александр Сергеевич (читать книгу онлайн бесплатно без txt) 📗
Женитьба стала для меня чудовищем, которое завлекло доступностью и законностью пизды, а потом убило трепет к ней привычкой и с помощью обета верности не допускало оживить трепет другими пиздами. Я отрубил одну голову чудовищу. Но у него осталось ещё две: верность жены и дети.
* * *
Не всегда я осмеливался идти навстречу предсказанной мне судьбе. Не пошел бы и теперь, да честь вынуждает. Признаюсь, что бегал я от белокурого офицера на балу, ибо смотрел он на меня с наглостью. Помню, как я сторонился белокурого Муравьева. И теперь бы убежал, будь я холост.
* * *
На балу Геккерен подошел ко мне и подал записку, сказав, что это исключительно важно. Я решил посмотреть, до какой степени он готов унизиться, чтобы уладить дело. Мне было легко, ибо я решил идти до конца при любых обстоятельствах.
Я будто бы нечаянно выронил записку, принимая её. Видя, что я не делаю движения поднять её, Геккерен, кряхтя, нагнулся сам, поднял записку и опять протянул её мне. "Напрасно трудитесь, барон, - сказал я и снова бросил её на пол, - я вас ещё не так унижу". Я видел, что ему стоило большого труда сдержать себя и не броситься на меня. Я рассмеялся ему в лицо, повернулся и ушел.
Теперь я мучаюсь любопытством, что же было в той записке?
* * *
Сила магнетизма присуща не только глазам, но и пизде. Сперва я не могу оторвать от неё взгляда, затем я выполняю её приказание ебать её, а потом она погружает меня в сон. Но, говоря серьёзно, моя страсть к магнетизму так ничем и не увенчалась. Н. не желала поддаваться моим опытам. Турчанинова научила меня приемам магнетизма, и я хотел с их помощью разжечь потаенные страсти у Н. и выведать её мысли. Но она не желала сосредоточиться, её разбирал смех, а у меня в конце концов не хватило терпения. Мой хуй магнетизирует лучше, чем я.
* * *
С Н. получилось бы то же самое, что и с Лизанькой, которую я когда-то взял с собой в Михайловское. Н. не знала бы, что с собою делать, маялась бы и тосковала, а я бы писал, без всякого желания развлекать её. Потому я просто боюсь брать Н. в деревню. Для меня же отказаться от света это значит отказаться от источника, из коего я вылавливаю красавиц, что, помимо пизды, обладают роскошным её обрамлением, отсутствующим у женщин из простонародья.
* * *
Когда я впервые увидел Дурову, я сразу уверился, что она гермафродит. Не будь она такой старой, я бы её соблазнил - уж очень любопытно посмотреть, что там у неё между ног. Она говорила о себе в мужском роде. Жила она в дрянном номере у Демута, и я предложил ей перебраться на мою квартиру, так как мы жили тогда на даче. Я всё примерялся, как нагряну к ней и уговорю раздеться или пойти со мной в баню. Её преклонение предо мной настолько очевидно, что я бы без труда склонил её к этому. Но переселение её сорвалось, и это было к лучшему.
Закончив свой визит к ней, я решил поцеловать ей руку. Дурова покраснела до корней волос, а я почувствовал себя Дантесом, целуя руку женщине, которая считает себя мужчиной и представляется Александром Андреевичем.
* * *
В любом из нас есть избыток хорошего и дурного. Счастье семейственное, уважение и любовь супругов высвобождает чувства добрые и удерживает проявление дурных. Но лишь увянет любовь, исчезнет уважение, как говно начинает переть изо всех дыр.
* * *
Пыл, нетерпение, дрожь - вот что убеждает меня, что я ещё жив.
* * *
Нередко ко мне приходила мысль: а что если Н. умрет от родильной горячки?
Сквозь ужас от этой мысли я спокойно представлял мгновенное освобождение ото всех забот. Детей я бы отдал на попечение Ази, государь простил бы мои долги, устроив обеспеченную жизнь для детей Н. Нет, это не горячая мечта, это холодная мысль, и посему я от неё легко избавляюсь и даже не корю себя. Я уже давно перестал пугаться святотатственных мыслей, которые заглядывают в мою голову.
Я так же легко представляю себе Н. в случае моей смерти на дуэли. Неутешно рыдающая в течение недели-двух, она постепенно придет в себя и начнёт улыбаться продолжающейся жизни и, наконец, впервые после моей смерти (через месяц? три?) решится потеребить похотник. Она будет успокаивать себя, в трауре, что это не грех, ибо она думает обо мне, а не о Дантесе, как это было при мне, живом. Года через два она выйдет замуж, и я, оттеснённый временем, не смогу уже прорваться в её мысли в часы сладострастья, даримого ей новым супругом. Но когда она впервые почувствует его хуй и невольно сравнит его с моим, то дай Бог, чтобы сравнение было в мою пользу, ибо память пизды для меня не менее важна, чем память сердца.
* * *
В первую нашу ночь мы с Н. повздорили, и это было ещё одним плохим предзнаменованием. Несмотря на мою осторожность, Н. вскрикнула от боли, а увидев кровь, перепугалась, сжалась в комочек, но мне показалось, что она притворяется, чтобы больше не давать. Меня же один раз только раззадорил, и я не мог удержаться, чтоб не приступить к ней опять. Н. сжала колени и стала ныть, что ей больно. Я уговаривал её, что больше не будет больно, но она упрямо отворачивалась от меня. Тогда я позволил ей лечь на живот, и она расслабилась, думая, что в таком положении её пизда недосягаема. Я стал гладить её ягодицы, невзначай раздвигая их. Промежность была в сладкой крови, которую я жадно вылизал. Она спросила, что я делаю, будто осязания ей было мало, чтобы понять, и, не получив ответа, спрятала лицо в подушку. А я тем временем нацелился, смочил хуй слюной и проскользнул в пизду одним махом. Н. вскрикнула: "Мне больно!" - и попыталась перевернуться на спину. Но ей было не под силу справиться с моей похотью, если я сам не мог с ней справиться.
"Потерпи, моя красавица", - шептал я ей в горящее ушко, стараясь не двигаться резко. Из глаз её потекли слезы, и тут я кончил.
"Тебе тоже больно?" - спросила моя участливая супруга, почувствовав мои содрогания. Мне было трудно убедить её, что движения, принесшие ей боль, принесли наслаждение мне. Но когда я захотел её снова, она уже не подпускала меня ни с какой стороны. Я хотел сесть на неё верхом, а она, защищаясь, согнула колени и хватила меня по яйцам. Я рассвирепел и решил её проучить. Рано утром я ушёл из квартиры и весь день провел с друзьями, оставив Н. одну, чтоб впредь неповадно было отказывать мужу. Вечером я застал её заплаканную, напуганную и покорную. Она была уверена, что я оставил её навсегда и так была счастлива моему возвращению, что отдалась мне безропотно, уверяя, что ей уже совсем не больно.
* * *
Всю свою жизнь я не мог найти в себе силы убить человека. На всех дуэлях я позволял противникам стрелять первыми, а потом я либо отказывался от выстрела, либо стрелял в воздух. Я верил, что Бог хранит меня, и ему я вверял свою жизнь. Пули миновали меня.
Если бы поединок можно было бы начинать сразу же после вызова, то тогда всё было бы иначе. А то ко времени дуэли моя злоба проходила, и дуэль уже не представлялась мне отмщением за оскорбление, а была просто рискованной игрой. Умом я понимал, что врага надо убить, иначе он убьёт тебя, но решиться на убийство мне не позволяло сердце. В бою есть жар, который увлекает стремительным движением, и ты убиваешь сгоряча. Дуэль же предприятие холодное, искусственное, с условиями и правилами, которые раздражают мысль, а не чувство. Убийство на дуэли для меня нетерпимо хладнокровно. Моё великодушие и прощение слаще, чем убийство по правилам.
Когда я вижу дымок из пистолета противника и чувствую, что пуля пролетела мимо, радость жизни окатывает меня с ног до головы, и я счастлив поделиться этой радостью с бывшим противником, пренебрегая своим выстрелом. Если бы пуля попала в меня, то, я уверен, ненависть бы снова вспыхнула во мне и я бы из последних сил прицелился и выстрелил во врага.
К моменту дуэли причины, её вызвавшие, всегда начинали мне казаться ничтожными, и только боязнь бесчестия заставляла меня доводить дело до конца.
Но упоение жизнью после дуэли бывало настолько сильным, что в периоды сплина я подумывал о дуэли как о лекарстве, которое хорошо бы принять. Так и получалось, что меня оскорбляли в дни моего мрачного расположения духа, и дуэль служила мне вместо кровопускания, но бескровного.