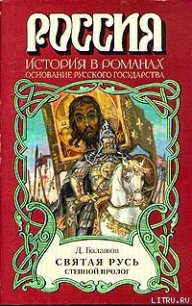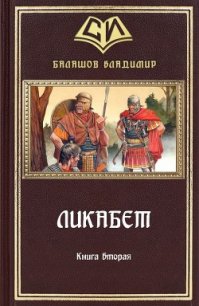Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло - Бертран Алоизиюс (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
Это была высокая, величественная женщина. В ее облике было такое благородство, какого я никогда не встречал в собраниях аристократических портретов прошлых лет. Дух надменной добродетели исходил от нее. Ее лицо, печальное и осунувшееся, чудесно гармонировало с глубоким трауром ее платья. Она так же, как и толпа простого народа, окружавшая ее, но на которую она, казалось, не обращала внимания, смотрела проницательным взором на блестящую публику и слушала музыку, слегка покачивая головой.
«Удивительное дело! – подумал я. – Как она ни бедна, она не смогла позволить себе мелкой скаредности: столько вкуса было во всем ее облике. Почему же она здесь, по доброй воле в этой толпе, где поистине казалась белой вороной?»
И вот, охваченный любопытством, пройдя совсем близко мимо нее, я, кажется, догадался, в чем тут дело. Высокая вдова держала за руку ребенка; он тоже был в трауре; как ни мала входная плата, ведь этих денег достаточно, чтобы купить ребенку что-либо нужное или даже обрадовать его игрушкой.
И она вернется домой пешком, печальная и задумчивая, одна, всегда одна; ибо ребенок суетлив, эгоистичен, капризен, нетерпелив и даже не может, как преданное животное, кошка или собака, служить поверенным в одиноком горе.
Собираясь в бурлящие толпы, с душой нараспашку, веселится и празднует народ отпускное время. На подобные праздники заблаговременно стекаются в город всевозможные клоуны, акробаты, дрессировщики животных, бродячие лотошники, стремясь возместить долгие периоды застоя в делах.
В эти дни, как мне кажется, народ забывает все тяготы жизни и работы. Он становится подобен детям. Для младших такой день – отсрочка, отдаление на двадцать четыре часа школьного ужаса. Для старших – перемирие, заключенное со зловещим господством повседневных житейских нужд, передышка в постоянной напряженной борьбе.
Даже светский человек или тот, кто поглощен умственным трудом, не могут избежать влияния народного праздника. Не отдавая себе отчета, они в той или иной степени впитывают дух беззаботного веселья простого народа. Я же, как истый парижанин, никогда не пропускаю праздничных развлечений на площадях и в балаганах.
Поистине здесь все в бешеном соревновании, одно стремится затмить другое: крик, вой, грохот, смесь голосов, медных труб и взрывов хлопушек. Пусть дует ветер, льет дождь или печет солнце, загорелые люди, под дурацкими колпаками, с красными хвостами шутов и арлекинов, изощряются в гримасах, сыплют острыми словечками и шутками, увесистыми и хлесткими, в духе Мольера, под дружный хохот толпы. Геркулесы, красующиеся необъятностью мускулов, беззлобые и безмозглые, как орангутанги, облачены в жалкое трико, специально выстиранное к празднику, и величественно демонстрируют свою мощь; танцовщицы, прекрасные, как феи или принцессы, прыгают и кружатся в лучах фонарей, и юбки их сверкают тысячами искр.
Все в блеске огней, в пыли, крике, радости и суматохе: и те, кто промотался, и те, кто разжился, – все одинаково веселы. Дети тянут за юбки матерей в надежде на несколько карамельных палочек или взбираются на плечи к отцам, чтобы лучше разглядеть фокусника, сверкающего, точно божество. И повсюду, побеждая все другие запахи, царит аромат дымящегося жира, который как бы служит благовонным ладаном праздника.
На краю, на самом краю балаганных рядов я приметил человеческую руину – нищего клоуна, согбенного, дряхлого, обтрепанного, который, как бы стыдясь, добровольно изгнал себя из блестящего круга и прислонился к входу в свой балаганчик, более жалкий, чем хижины самых забитых дикарей. Два свечных огарка, дрожащих и чадящих, еще сильнее подчеркивали это убожество.
Повсюду оживление, смех, ликование, уверенность в завтрашнем куске хлеба, повсюду бешеные вспышки беззаботности; здесь – нагая нищета, нищета в шутовских лохмотьях – верх ужаса! Лохмотья клоуна – убийственный контраст между безнадежной нищетой и назначением его искусства развлекать и веселить! Он и не пытался, бедняга, казаться веселым! Не плясал, не кривлялся, не орал, и не пел, и не умолял. Он был нем и неподвижен. Он был вычеркнут, обречен. Судьба его свершилась.
Но какой незабываемый, скорбный взгляд! Он скользил по толпе, по разливу огней, чей бурлящий поток, казалось, был остановлен в нескольких шагах отталкивающим зрелищем этой нищеты. Я почувствовал, как горло у меня сжимается почти истерическим спазмом и глаза застилаются теми непокорными слезами, которые так и не проливаются.
Как надо было поступить? Можно ли было попросить у этого воплощенного бедствия чего-либо веселого и волшебного в вонючем мраке за драной занавеской его балагана? Поистине я не мог отважиться на это; возможно, такое проявление чувствительности вызовет у вас смех, но я страшился оскорбить его. В конце концов я решил, что, проходя мимо, положу ему несколько монет на порог его балагана в надежде, что старик разгадает мои чувства. Но тут внезапное движение толпы, вызванное каким-то происшествием, отнесло меня далеко от него.
И вот, оглядываясь, преследуемый этим неотвязным видением, стараясь разобраться в овладевшей мною тоске, я говорил себе: «Перед моими глазами был образ старого служителя муз, пережившего свое поколение, для которого он был когда-то кумиром и забавой, старого поэта без друзей, без семьи, без детей, ввергнутого в горе нищетой и общественным равнодушием, поэта, в балаган которого забывчивый свет больше не хочет входить».
Позволь мне долго, долго вдыхать аромат твоих волос, погружать в них все лицо, как жаждущий в струи источника; распустить твои волосы, точно надушенный платок, чтобы в воздухе затрепетали воспоминания.
Если бы ты знала все то, что я вижу, все, что я чувствую, что я слышу в твоих волосах! Моя душа странствует в их благоухании, как иные души в звуках музыки.
Волна твоих волос воплотила в себе грезу, полную трепета парусов и мачт; она обняла пространства открытых морей, где муссоны влекут меня к очарованным широтам; там пространство глубже и прекрасней, там воздух напоен ароматом плодов, листьев и живой плоти человека.
В океане твоих волос – виденье гавани, где слышны меланхолические песни, мелькают сильные тела мужчин всех народов, а в очертаниях кораблей возникает многосложное изящество архитектуры снастей, слитых с просторами неба, где зыблется вечный зной.
В ласке твоих волос я как бы обретаю сладостную длительность дней истомы в каюте стройного корабля, убаюкающего в гавани чуть ощутимым покачиванием, среди цветов и освежающего бульканья волн за бортом.
В жарком пламени твоих волос я дышу сладким запахом табака, смешанного с опием; в ночи твоих волос я вижу сияние беспредельной лазури тропиков; на пушистых берегах твоих волос мне чудится запах смолы, мускуса и кокосового масла.
О позволь мне долго и медлительно впиваться в черные жгуты твоих кудрей. Когда мои зубы покусывают упругие и непокорные пряди твоих волос, мне чудится, будто я насыщаюсь воспоминаниями…
Луна, эта причудливая капризница, смотрела в окно на тебя, спящую в колыбели, и говорила: «Это дитя нравится мне».
И вот она воздушной походкой спустилась по лестнице из облаков и бесшумно проскользнула сквозь оконное стекло. Потом приникла к тебе с нежностью матери и разлилась своим светом по твоему лицу. И зрачки твоих глаз навсегда остались зелеными, а щеки необычайно бледными. Ты глядела на ночную гостью, и в твоих безумно расширенных глазах остался ее облик: она так нежно сжала тебе шею, что в тебя вошло вечное желание плакать.
[196] Впервые появилось в «Ревю фантастик» 1 ноября 1861 г.
Стихотворение навеяно как непосредственными впечатлениями поэта, так и работами художника Констан-тена Гиса (1802 – 1892), часто изображавшего причудливый и трагический мир нищих комедиантов. Современному же читателю оно напомнит скорее образы, созданные А. де Тулуз-Лотреком, Пабло Пикассо и особенно Ж. Руо (иные из его картин, изображающих клоунов, могли бы служить наилучшими живописными парафразами данного стихотворения).
[197] Впервые появилось в «Ле Презая» 24 августа 1857 г.
В стихотворении развивается еще один излюбленный мотив интимной лирики Бодлера, знакомый читателю по «Цветам Зла» («Экзотический аромат», «Волосы» и т. д.).
[198] Впервые напечатано в «Ле Бульвар» 14 июня 1863 г