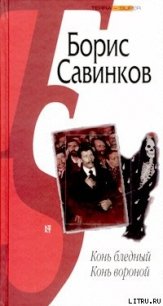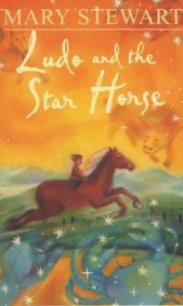Десница великого мастера - Гамсахурдиа Константин Семенович (читать книги полностью .txt) 📗
— Откуда возьмете строителей?
— Сто двенадцать человек вызваны из Болниси.
— Вы увидите, как трудно будет разобрать старую стройку. Абуль-Касим разрушил только северный ее фасад.
— Нам приказано разобрать всю постройку по камешку, чтобы не повредить усыпальницы царей и католикосов.
— Но тогда, по-моему, и трех месяцев не хватит на разборку старого храма.
— Его святейшество изволит говорить, что в случае необходимости он велит привезти из Абхазии еще тысячу рабов и пятьдесят лазов-каменщиков.
Фарсман умолк. Снова склонился он над планом, развернутым на столе, и, облокотившись, стал пристально рассматривать чертеж, затем, подняв голову, пробормотал что-то про себя.
Наконец он выпрямился, уставился на стену, точно видел на ней план храма и рассматривал его. Взглянул в рябое лицо Константина Арсакидзе и произнес:
— Доложи, юноша, царю от моего имени, что и в десять лет нельзя построить такого огромного храма. И на все эти годы мы должны будем приостановить строительство крепостей, камнеметов и таранов…
Он сложил свиток и вручил его Арсакидзе. Константин Арсакидзе пожелал мастеру спокойной ночи. Взгляд его скользнул по разгоревшемуся в камине огню.
Перед камином стояли раскаленные мангалы, и на них были установлены медные горшки, крышки на горшках подскакивали и гремели. Из горшков шел смрадный запах.
«Фарсман, наверное, варит какой-нибудь яд», — подумал Арсакидзе и стремительно направился к выходу. Впереди него шла Теброния, освещая светильником темный коридор и лестницы.
Фарсман снова взялся за наргиле, большим пальцем придавил опиум и зажег. Опять поднялся зеленый дым, лохматый, как клочья шерсти, повис в воздухе и лениво потянулся по темным сводам комнаты.
Застыв на месте, сидел Фарсман, жадно тянул опиум и глядел в давящую на него темноту. Неровно мерцали восковые свечи, за окнами в темноте звякали бубенцы мимо идущих караванов.
Волоча ноги, вошла Теброния, принесла в миске вареную пшеницу, заправленную медом, но Фарсман был уже так опьянен, что не заметил ее.
У него кружилась голова, перед глазами прыгали желтые шарики, словно подбрасываемые скоморохами. Он ощущал покачивание всего тела, как человек, впер вые сидящий на. верблюде или в открытой лодке, выходящей в бурное море.
На висках выступил пот. Он протер глаза руками. Покой медленно нисходил на него, мышцы расслабли, он задремал, но как раз в это время кто-то резко постучал в дверь.
Фарсман поморщился.
Дремавшая у камина Теброния схватила светильник, распахнула дверь; перед ней стоял какой-то верзила. Фарсман посмотрел пристально на незнакомца и сразу же узнал в нем посыльного главного судьи.
Пришедший не захотел переступить порога и, вручив Тебронии какой-то свиток, не прощаясь, зашагал по темному коридору. Фарсман развернул свиток и прочел обращение главного судьи:
«Обвиняется перед царем абхазов, грузин, ранов, кахетинцев и армян царем царей Георгием главный зодчий Фарсман Перс.
Пострадавшая — Фанаскертели Русудан, Обвинитель -царский духовник Амбросий…»
Сразу прошло опьянение у Фарсмана Перса. Он, не дочитав, швырнул свиток на стол и, придвинув кресло к камину, стал греть над огнем похолодевшие руки. По телу прошла дрожь. Он выпрямился в кресле, сцепил пальцы рук и потянулся.
Затем он разнял руки, приподнялся на локотниках кресла и, вытянув ноги, уперся ими в самый край камина; уставился на догорающие поленья, на которых еще оставались те тонкие прожилки, какие бывают видны на свежесрубленных пнях.
Фарсман следил, как оседала головня, поблескивая золотыми искрами. Он привстал и подбавил несколько поленьев. Затрещали, зашипели дрова. Густая, липкая пена выступила на них, и там, где были следы срезанных веток, шипение постепенно переходило в свист.
Оцепенелый, сидел у камина Фарсман и глядел в огонь. Перед ним возникало то пергаментно-сухое грозное лицо католикоса Мелхиседека, то прищуренные пронзительно-серые глаза царского духовника.
Какая странная и бессмысленная жизнь! Сколько сабельных ударов, скольких храбрых рыцарей, прославленных стратигов и гулямов бесстрашно отражал Фарсман! Скольких грузин и греков, сарацин и армян сразил он мечом!
А теперь этот высохший, тощий старик Мелхиседек, католикос, хочет сократить срок его жизни -его, Фарсмана, многоопытного воина и путешественника.
В этом году, в день рождества Христова, стоял Мелхиседек перед алтарем и говорил проповедь пастве. От возбуждения он словно стал выше ростом, на бледном его лице зловеще пылали маленькие пронзительные глазки.
Точно одержимый, изрекал католикос свою проповедь. Он пугал паству огненной геенной судного дня, призывал христиан обуздывать земные страсти и, касаясь грехов Содома, сказал: «Всякому человеку, великому и малому, богатому и бедному, царю и вазиру, знатному и незнатному, священнослужителю и монаху, мирянину и отшельнику, старцу и отроку, всякому чину и всякому возрасту, заповедаем мы воздержаться от этой страсти». Затем католикос рассказал, как от содомского греха погибли Афины и Рим, Фивы и Вавилон, страна ассуров и фарсов…
Фарсман встал, взял со стола извещение главного судьи, снова подсел к камину и внимательно перечитал его. Да, католикос обвинял его в грехе, которому нет искупления и прощения. Фарсман отлично знал, законы церкви. Три вида наказания как в Грузии, так и в Византии были установлены за грехи содомские: подымали на дыбу, отрубали голову, ослепляли.
Больше всего боялся он, что ему выжгут глаза. Что он будет делать, если его ослепят? Обвинение было тяжкое — растление малолетней.
Оно осложнялось еще положением самого Фарсмана. По законам государства, «грехи людей просвещенных тяжелее грехов людей незнающих и неведающих».
Еще раз перечитал Фарсман обвинение и, свернув свиток, забросил его на полку камина. Фарсман уперся локтями в колени и, подперев кулаками скулы, стал молча смотреть на огонь. Теброния храпела на тахте.
Тишина и мрак вступили в комнату Фарсмана. Лишь с дороги иногда слышался свист бича погонщика мулов да звон бубенцов. Щемяще однообразно посвистывало полено в камине, булькали кипящие медные горшки, распространяя вокруг адский смрад.
Догорало последнее полено. Пока еще сохранились на нем неясные узоры прожилок. Еще немного — и оно рассыплется. Полено не будет больше походить на себя. Что же останется от него? Немного угля и пепла. Ничего, кроме угля и пепла… Пройдет еще несколько дней, и возможно, что его тело вот так же будет разлагаться и разрушаться, как это объятое, пламенем полено; Смотрит Фарсман на пылающий камин и вспоминает свое сладкое детство.
Восковые свечи трещат в нишах. Сгорбившись, сидит он в своем кресле. Огромная тень его легла на стену, концы чалмы, обмотанной вокруг головы, вырисовываются на стене, как рога сатаны. Сидит Фарсман Перс у огня, между тенью своей старости видениями юности.
…Вот бежит семилетний мальчуган и держит в руках лук и стрелы. В воображении Фарсмана возникает силуэт замка Тухариси. На кровлях этого замка гонялся Фарсман за голубями, в потайных ходах и подвалах охотился он, несравненный стрелок, за крысами.
Вспоминает он дремучие леса Шавшети, замки и храмы На вершинах гор, стремящиеся со скал водопады, мутные воды Чороха, силки для пташек, сети для форелей, луга, рев быков, возвращающихся домой, вечернее пение на клиросе, шествия с факелами на страстной неделе, игру света и тени на окнах придворной церкви в Тухариси, летучих мышей, голубей и вяхирей.
Крыльями смели они его юность.
Вспоминается всегда хмурый дед Сумбат-богатырь в латах цвета ржавчины, его серый в яблоках мерин, соколы, белые борзые и пегие гончие. Вспоминается отец — Бакар, белокурый витязь с серыми глазами, мать — Нана, вся ушедшая в молитвы, в сладкое пение ирмосов.
Встает перед глазами ворчливый лысый наставник, хромой Вардан, с выщипанным, как куриное гузно, подбородком. Лишь на правой ноге он носил шпору.
Как тень, следует за мальчиком Вардан, запрещает ему взбираться на чердаки замка, не дает заглядывать в подвалы, вечно кутается сам и кутает своего воспитанника.