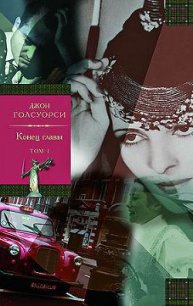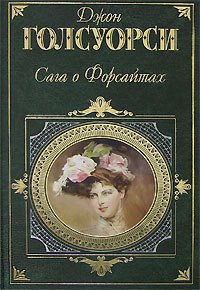Конец главы. Том 1. Девушка ждет. Пустыня в цвету - Голсуорси Джон (книги бесплатно без TXT) 📗
– Говядины, сэр? Телятины? Куропатку?
– Куропатку. Благодарю вас.
– Я однажды видела, как заяц мыл уши, – вставила девушка.
– Когда у вас такой вид, – сказал молодой Тесбери, – я просто…
– Какой такой?
– Ну, словно вас нет.
– Весьма признательна.
– Динни, – спросил сэр Лоренс, – кто это сказал, что мир похож на устрицу? А по-моему – на улитку. Как ты считаешь?
– Я не очень разбираюсь в моллюсках, дядя Лоренс.
– Твоё счастье. Эта брюхокогая пародия на чувство собственного достоинства – единственное осязаемое воплощение американского идеализма. Американцы так стараются ей подражать, что готовы даже употреблять её в пищу. Стоит американцам от этого отказаться, как они станут реалистами и вступят в Лигу наций. Тогда нам конец.
Но Динни не слушала, – она наблюдала за лицом Хьюберта. Взгляд его больше не светился тоской, глаза были прикованы к глубоким манящим глазам Джин. Динни вздохнула.
– Совершенно верно, – подхватил сэр Лоренс. – Мы, к сожалению, не доживём до того дня, когда американцы перестанут подражать улитке и вступят в Лигу наций. В конце концов, – продолжал он, прищурив левый глаз, она создана американцем и представляет собой единственное разумное начинание нашей эпохи. Тем не менее она вызывает непреодолимое отвращение у почитателей другого американца по имени Монро, который умер в тысяча восемьсот тридцать первом году и о котором люди типа СаксенДена никогда не вспоминают без насмешки.
Читала ты эту вещь Элроя Флеккера?
– Да, – ответила поражённая Динни. – Хьюберт цитирует его в дневнике. Я прочла это место лорду Саксендену. Как раз на нём он заснул.
– Похоже на него. Но не забывай, Динни: Бантам дьявольски хитёр и великолепно знает мир, в котором живёт. Допускаю, что ты предпочтёшь умереть, чем жить в таком мире, но ведь в нём и без того недавно умерло десять миллионов более или менее молодых людей. Не помню, – задумчиво заключил сэр Лоренс, – когда ещё за собственным столом меня кормили лучше, чем в последние дни. На твою тётку что-то нашло.
После завтрака, затеяв партию в крокет – она сама с Аденом Тесбери против его отца и тёти Уилмет, Динни стала свидетельницей того, как Джин с Хьюбертом отправились осматривать грядки портулака. Последние тянулись от заброшенного огорода до старого фруктового сада, за которым простирались луга и начинался подъём.
"Они не ограничатся портулаком", – решила она.
В самом деле, закончилась уже вторая партия, когда Динни снова увидела их. Они возвращались другой дорогой и были поглощены разговором. "Вот самая быстрая победа, которая когда-либо одержана на свете!" – подумала она, изо всех сил ударив по шару священника.
– Боже милостивый! – простонал совершенно уничтоженный церковнослужитель.
Тётя Уилмет, прямая, как гренадер, громогласно изрекла:
– Чёрт побери, Динни, ты просто невозможна!..
Вечером Динни ехала рядом с братом в их открытой машине и молчала, приучая себя к мысли о втором месте, на которое ей, видимо, придётся теперь отступить. Она добилась того, на что надеялась, и, несмотря на это, была удручена. До сих пор она занимала в жизни Хьюберта первое место. Девушке потребовалось все её философское спокойствие, чтобы примириться с улыбкой, то и дело мелькавшей на губах брата.
– Ну, какого ты мнения о наших родственниках?
– Он славный парень. По-моему, неравнодушен к тебе.
– В самом деле? Когда им лучше приехать к нам, как ты считаешь?
– В любое время.
– На будущей неделе?
– Прекрасно.
Видя, что Хьюберт не склонен к разговорам, Динни отдалась созерцанию красоты медленно угасавшего дня. Возвышенность Уэнтедж и дорога на Фарингдон были озарены ровным сиянием заката. Впереди громоздились Уиттенхемские холмы, и тень их скрывала от глаз подъем дороги. Хьюберт взял вправо, машина выехала на мост. На середине его девушка тронула брата за руку:
– Вон тут мы видели с тобой зимородков. Помнишь, Хьюберт?
Хьюберт остановил машину. Они смотрели на тихую безлюдную реку, у которой так привольно живётся весёлым птицам. Брызги меркнущего света, пробиваясь сквозь ветви ив, падали на южный берег. Темза кажется здесь самой мирной, самой покорной прихотям человека рекой на свете и в то же время, спокойно, но безостановочно струясь по светлым полям мимо деревьев, склонившихся к её невозмутимо чистым водам, живёт своей жизнью, обособленной и прекрасной.
– Три тысячи лет назад, – внезапно сказал Хьюберт, – эта древняя река текла по непроходимой чаще и была таким же хаотическим потоком, какие я видел в джунглях.
Он повёл машину дальше. Теперь солнце светило им в спину, и казалось, что они въезжают в какой-то неестественный, нарочно нарисованный для них простор.
Так они ехали до тех пор, пока в небе не угас пожар заката и одинокие вечерние птицы не взмыли над потемневшими сжатыми полями.
У ворот Кондафорда Динни вылезла и, напевая сквозь зубы: "Она была пастушкой, ах, какой прекрасной!" – посмотрела брату в лицо. Но он возился с машиной и не уловил связи между словами и взглядом.
XII
Характер человека, относящегося к молчаливой разновидности молодых англичан, трудно поддаётся определению. Если же человек относится к их разговорчивой разновидности, сделать это довольно просто. Его манеры и привычки бросаются в глаза, хотя отнюдь не показательны для национального типа. Шумный, склонный все критиковать и все высмеивать, знающий все на свете и признающий только себе подобных, он напоминает ту радужную плёнку на поверхности болота, под которой залегает торф. Он неизменно блистает умением говорить и ничего не сказать; те же, чья жизнь посвящена практическому применению заложенной в них энергии, не становятся менее энергичными оттого, что их никто не слышит. Непрестанно декларируемые чувства перестают быть чувствами, а чувствам, которые никогда не заявляют о себе, молчаливость придаёт особую глубину. Хьюберт не казался энергичным, но не был и флегматичным. У него отсутствовали даже внешние приметы молчаливой разновидности англичанина. Воспитанный, восприимчивый и неглупый, он судил о людях и событиях трезво и с такой меткостью, которая поразила бы его разговорчивых соотечественников, если бы он не так упорно избегал высказывать свои суждения вслух. К тому же до последнего времени у него не было для этого ни досуга, ни удобного случая. Однако, встретив его в курительной, или за обеденным столом, или в любом другом месте, где можно блеснуть красноречием, вы сразу же догадывались, что ни досуг, ни удобный случай не сделают его разговорчивым. Он рано ушёл на войну, стал профессиональным военным и не испытал воздействия университета и Лондона, которое так расширяет горизонт. Восемь лет в Месопотамии, Египте, Индии, год болезни и экспедиция Халлорсена придали ему замкнутый, насторожённый и несколько желчный вид. Он был наделён темпераментом, который снедает человека, если тот обречён на праздность. Он ещё кое-как выносил её, когда мог разъезжать верхом и бродить с ружьём и собакой, но без этих вспомогательных, отвлекающих средств просто погибал.
Дня через три после возвращения в Кондафорд он вышел на террасу к Динни с номером «Тайме» в руках:
– На, взгляни.
Динни прочла:
"Сэр.
Льщу себя надеждой, что вы простите мою назойливость. Мне стало известно, что некоторые места из моей книги "Боливия к её тайны", опубликованной в июле прошлого года, доставили прискорбные неприятности моему помощнику капитану Хьюберту Черрелу, кавалеру ордена "За боевые заслуги", который во время нашей экспедиции ведал транспортом. Перечитав эти места, я пришёл к выводу, что, обескураженный частичной неудачей экспедиции и крайне утомлённый, я подверг поведение капитана Черрела незаслуженной критике. Хочу ещё до выхода второго, исправленного издания книги, которое, надеюсь, не замедлит появиться, воспользоваться возможностью публично, через вашу широко известную газету взять обратно выдвинутые мной обвинения. Считаю приятным долгом принести капитану Черрелу, как человеку и представителю британской армии, мои искренние извинения по поводу тех огорчений, которые я ему причинил и о которых сожалею.
Ваш покорный слуга
Эдуард Халлорсен, профессор.
Отель «Пьемонт».