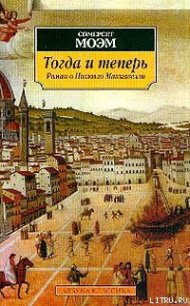Бремя страстей человеческих - Моэм Уильям Сомерсет (мир книг .txt) 📗
В час дня звонок позвал его к обеду; в гостиной собрались все жильцы фрау профессорши. Филипа представили ее супругу — высокому человеку средних лет с кроткими голубыми глазами и большой светловолосой головой, которую тронула седина. Он заговорил с Филипом на правильном, но довольно старомодном английском языке, усвоенном из английских классиков; странно было слышать в разговоре слова, которые Филип встречал лишь в пьесах Шекспира. Фрау профессорша Эрлин звала свое заведение не пансионом, а «семейным домом»; но нужно было хитроумие метафизика, чтобы установить, в чем заключалось различие. Когда они уселись обедать в длинной темной комнате рядом с гостиной, Филип, который очень робел, насчитал за столом шестнадцать человек. Фрау профессорша сидела во главе стола и раскладывала порции. Прислуживал, нещадно стуча тарелками, все тот же неотесанный увалень, который открыл Филипу дверь; как он ни суетился, первые кончали есть, прежде чем получали свою еду последние. Фрау профессорша настаивала на том, чтобы говорили только по-немецки, так что, если бы Филип и пересилил свою застенчивость, ему все равно пришлось бы молчать. Он приглядывался к людям, с которыми ему предстояло жить. Возле фрау профессорши сидело несколько старух, но Филип не обратил на них внимания. Были тут и две молодые девушки, обе белокурые, и одна из них очень хорошенькая; Филип услышал, что одну звали фрейлейн Гедвига, а другую — фрейлейн Цецилия. У фрейлейн Цецилии была длинная коса. Девушки сидели рядом и болтали друг с другом, сдержанно хихикая; они то и дело посматривали на Филипа; одна из них что-то шептала другой, и та фыркала, а Филип краснел как рак, чувствуя, что они над ним потешаются. Рядом с ними сидел китаец с желтым лицом и широкой улыбкой — он изучал жизнь Запада. Китаец говорил скороговоркой, с таким странным акцентом, что девушки не всегда могли его понять и покатывались со смеху. Он тоже добродушно посмеивался, жмуря свои миндалевидные глаза. Было тут и несколько американцев в черных пиджаках, с пергаментным, нездоровым цветом лица — студенты-теологи; в их плохой немецкой речи Филипу слышалось гнусавое американское произношение; он поглядывал на них подозрительно — ведь его учили смотреть на американцев как на необузданных дикарей.
Позже они посидели немного в гостиной на жестких стульях, обитых зеленым бархатом, и фрейлейн Анна спросила Филипа, не хочет ли он с ними прогуляться.
Филип согласился. Собралась целая компания: дочери фрау профессорши, две другие девушки, один из американских студентов и Филип. Филип шел с Анной и фрейлейн Гедвигой и немножко волновался. Он никогда еще не был знаком ни с одной девушкой. В Блэкстебле не было никого, кроме дочерей крестьян и местных лавочников. Филип знал их по именам и в лицо, но был робок и ему казалось, что они смеются над его хромотой. Он охотно соглашался со священником и миссис Кэри, которые проводили границу между собственным высоким положением и положением крестьян. У доктора было две дочери, но обе значительно старше Филипа; они вышли замуж за ассистентов отца еще тогда, когда Филип был совсем маленьким. В Теркенбэри были девицы не слишком скромного поведения, с которыми встречался кое-кто из учеников; об интрижках с ними рассказывали скабрезные истории — плод воспаленного мальчишеского воображения. Слушая их, Филип скрывал свой ужас под личиной гордого презрения. Его фантазия и прочитанные книги воспитали в нем склонность к байронической позе; в нем боролись чувства — болезненная застенчивость и уверенность, что он обязан быть галантным. Сейчас он понимал, что ему нужно казаться веселым и занимательным. Но в голове у него не было ни единой мысли, и он мучительно придумывал, что бы ему сказать. Дочь фрау профессорши, фрейлейн Анна, то и дело обращалась к нему из чувства долга; другая же девушка говорила мало, зато поглядывала на него насмешливыми глазами, а иногда, к его великому смущению, откровенно заливалась смехом. Филип был уверен, что выглядит чучелом гороховым. Они шли по склону холма, среди сосен, и Филип с наслаждением вдыхал их аромат. Стоял теплый и безоблачный день. Наконец они взобрались на холм и увидели внизу перед собой долину Рейна, залитую солнцем. Просторные дали словно искрились в золотых лучах; змеилась серебристая лента реки, а по берегам ее были разбросаны города. В том уголке Кента, где жил Филип, не было таких просторов, одно только море открывало глазу дальние горизонты; неоглядная ширь, лежавшая перед Филипом, приводила его в какой-то неизъяснимый восторг. Он вдруг ощутил себя словно окрыленным. Сам того не понимая, он впервые испытал чистое, ни с чем другим не смешанное чувство красоты. Они сели втроем на скамейку — остальные ушли дальше, — и, пока девушки болтали по-немецки, Филип, забыв о их присутствии, наслаждался открывшимся ему видом.
— Видит Бог, я счастлив, — бессознательно произнес он вслух. 23
Иногда Филип вспоминал о Королевской школе в Теркенбэри и посмеивался, гадая, чем там заняты в эту минуту. Иногда ему снилось, что он все еще в школе, и, просыпаясь в своей башенке, он «испытывал необычайное удовлетворение. Лежа в постели, он видел огромные кучевые облака, висевшие в синем небе. Он наслаждался свободой. Он мог ложиться, когда хотел, и вставать, когда ему нравилось. Никто им не командовал. Его радовало, что ему не приходится больше лгать.
Они договорились с профессором Эрлином, что тот станет учить его латыни и немецкому; каждый день к нему приходил француз и давал уроки французского; а в качестве учителя математики фрау профессорша рекомендовала англичанина, изучавшего филологию в университете. Это был некий Уортон. Он снимал комнату в верхнем этаже запущенного дома. Дом был грязный, неопрятный, в нем воняло на все лады. В десять часов утра, когда появлялся Филип, Уортон обычно был еще в постели; вскочив, он натягивал грязный халат, совал ноги в войлочные туфли и, пока давал урок, поглощал свой скудный завтрак. Это был приземистый человек, растолстевший от неумеренного потребления пива, с густыми усами и длинными, растрепанными волосами. Он прожил в Германии уже пять лет и совсем онемечился. Он с презрением говорил о Кембриджском университете, где получил диплом, и с горечью — о возвращении в Англию, где его после защиты диссертации в Гейдельберге ожидала педагогическая карьера. Он обожал университетскую жизнь в Германии с ее независимостью и веселым компанейством. Он был членом Burschenschaft [4] и обещал сводить Филипа в Kneipe [5]. Не имея ни гроша за душой, он не скрывал, что уроки, которые он дает Филипу, позволяли ему есть за обедом мясо вместо хлеба с сыром. Иногда после бурно проведенной ночи у него так трещала голова, что он не мог даже выпить кофе и давал урок с большим трудом. Для таких случаев он хранил под кроватью несколько бутылок пива; кружка пива, а за нею трубка помогали ему переносить житейские невзгоды.
— Клин клином вышибай, — изрекал он, осторожно наливая себе пиво, чтобы пена не мешала ему поскорее добраться до влаги.
Потом он рассказывал Филипу об университете, о ссорах между соперничавшими корпорациями, о дуэлях, о достоинствах того или иного профессора. Филип больше учился у него жизни, чем математике. Иногда Уортон со смехом откидывался на спинку стула и говорил:
— Послушайте, а мы ведь сегодня бездельничали. Вам не за что мне платить.
— Какая ерунда! — отвечал Филип.
Тут было что-то новое, очень интересное, куда более важное, чем тригонометрия, которой он все равно не понимал. Перед ним словно распахнулось окно в жизнь, он глядел на нее — и душа его замирала.
— Нет уж, оставьте ваши грязные деньги себе, — говорил Уортон.
— Ну, а как вы намерены обедать? — с улыбкой спрашивал Филип; он отлично знал денежные дела своего учителя: Уортон даже попросил его выплачивать по два шиллинга за урок еженедельно, а не ежемесячно — это облегчало дело.
4
студенческой корпорации (нем.)
5
пивную (нем.)