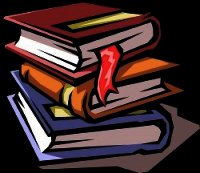В круге первом (т.2) - Солженицын Александр Исаевич (книга жизни .TXT) 📗
Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шеей через стоячий воротник, Словута осмотрел кабинет и одобрил:
— Хорошо живёшь, Макарыгин!
— Да где хорошо… Думаю в областные переводиться.
— В областные? — прикинул Словута. Не мыслителя было у него лицо, сильное челюстью и жиром, но главное ухватывал он легко. — Да может и есть смысл.
Смысл они понимали оба, а Радовичу знать не надо: областному прокурору кроме зарплаты дают пакеты, а в Главной Военной до этого надо высоко дослужиться.
— А зять старший — лауреат трижды?
— Трижды, — с гордостью отозвался прокурор.
— А младший — советник не первого ранга?
— Ещё пока второго.
— Но боек, чёрт, до посла дослужит! А самую младшую за кого выдавать думаешь?
— Да упрямая девка, Словута, уж выдавал её — не выдаётся.
— Образованная? Инженера ищет? — Словута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом. — На восемьсот рубликов? Уж ты её за чекиста, за чекиста выдавай, надёжное дело.
Ещё б Макарыгин этого не знал! Он и свою-то жизнь считал неудачливой из-за того, что не пробился в чекисты. Последний замызганный оперуполномоченный в тёмной дыре имеет больше силы и получает зарплату побольше столичных видных прокуроров. Всю прокуратуру считают балаболкой, кормить её не за что. Это рана была, тайная рана Макарыгина, что ему не удалось в чекисты…
— Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл, не держи меня больше, ждут. А ты, профессор, тоже бувай здоров, не болей.
— Всего хорошего, товарищ генерал.
Радович встал попрощаться, но Словута не протянул ему руки. Радович оскорблённым взглядом проводил круглую объёмную спину гостя, которого Макарыгин пошёл довести до машины. И, оставшись один с книгами, тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков и уже нёс в кресло, да заметил на столе ещё книжечку в пестроватом черно-красном переплёте, прихватил и её.
Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная (и сразу в миллионе экземпляров) новинка: «Тито — главарь предателей» какого-то Рено де-Жувенеля. За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзотины он давно в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника пробегая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе — кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина её автор, и сколько новой жёлчи поднимет она в душах людей против безвинной Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах: «Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться; раз он признался — значит, был виноват», — Радович с гадливостью положил книгу на прежнее место.
Конечно! Нет нужды подробно останавливаться на мотивах! Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу, носком сапога отщемляли ему половые органы (в Стерлитамаке старый арестант Абрамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно-близким, рассказывал ему о приёмчиках НКВД). Раз он признался — значит, был виноват!.. — summa summarum сталинского правосудия!
Но слишком больным местом была Югославия, чтобы сейчас задевать её в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орденок рядом с потускневшими прежними, Душан затаённо сидел в кресле и читал том энциклопедии.
— Не балуют прокуратуру орденами, — вздохнул Макарыгин, — к тридцатилетию выдавали, а так редко кому.
Ему очень хотелось поговорить об орденах и почему сейчас получил именно он, но Радович согнулся вдвое и читал.
Макарыгин вынул новую сигару и с размаху опустился на диван.
— Ну, спасибо, Душан, ничего не ляпнул. Я боялся.
— А что я мог ляпнуть? — удивился Радович.
— Что ляпнуть! — обрезал сигару прокурор. — Мало ли что! У тебя всё куда-то выпирает. — Закурил. — Вон он про японцев рассказывал — у тебя губы дрожали.
Радович распрямился:
— Потому что гнусная полицейская провокация, за десять тысяч километров пованивает!
— Да ты с ума сошёл, Душан! Ты — при мне не смей так! Как ты можешь о нашей партии…
— Я не о партии! — отгородился Радович. — Я — о Словутах. А почему именно сейчас, в сорок девятом году, мы обнаружили японскую подготовку сорок третьего года? Ведь они у нас четыре года уже в плену. А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолётов? Всё так и есть?
Оттопыренные уши Макарыгина покраснели:
— А почему нет? А если что немного не так — значит, государственная политика требует.
Пергаментный Радович нервно залистал свой том.
Макарыгин молча курил. Зря он его приглашал, только позорился перед Словутой. Все эти старые дружбы — чепуха, лишь в воспоминаниях хороши. Человек не может проявить даже простой гостевой вежливости, вникнуть, чему хозяин рад, чем озабочен.
Макарыгин курил. Пришли на ум неприятные ссоры с младшей дочерью. За последние месяцы если обедали втроём без гостей, то не отдых, не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. А на днях забивала гвоздь в туфле и при этом пела какие-то бессмысленные слова, но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее:
— Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А «Слезами залит мир безбрежный» — с этой песней люди умирали, шли на каторгу.
Она же из упрямства, или чёрт знает из чего, ощетинилась:
— Подумаешь, благодетели! На каторгу шли! И теперь идут!
Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у неё туфлю из рук и хлопнул об пол:
— Да как ты можешь сравнивать! Партию рабочего класса и фашистское отребье?!..
Твердолобая, хоть кулаком её в лоб, не заплачет!
Так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете:
— Брось ты, папа, декламировать! Какой ты рабочий класс? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором! Ты — рабочий, а в доме молотка нет! Бытие определяет сознание, сами нас научили.
— Да общественное бытие, дура! И сознание — общественное!
— Какое это — общественное? У одних хоромы, у других — сараи, у одних — автомобили, у других — ботинки дырявые, так какое из них общественное?
Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданиям мудрость старшего поколения:
— Ты вот глупа!.. Ты… ничего не понимаешь и не учишься!..
— Ну, научи! Научи! На какие деньги ты живёшь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаёшь?
И вот тут не нашёлся прокурор; очень ясно — а сразу не скажешь. Только крикнул:
— А тебе в твоём институте тысячу восемьсот — за что?..
— Душан, Душан, — размягчённо вздохнул Макарыгин. — Что мне с дочерью делать?
Лицу Макарыгина большие отставленные уши были как крылья сфинксу. Странно выглядело на этом лице растерянное выражение.
— Как это могло случиться, Душан? Когда мы гнали Колчака — могли мы думать, что такая будет нам благодарность от детей?.. Ведь если приходится им с трибуны в чём-нибудь поклясться перед партией, они, сукины дети, эту клятву такой скороговоркой бормочут, будто им стыдно.
Он рассказал сцену с туфлей.
— Как я правильно должен был ей ответить, а?
Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и протирал им стёкла очков. Когда-то всё это Макарыгин знал, но до чего же стал дремуч.
— Надо было ответить?.. Накопленный труд. Образование, специальность — накопленный труд, за них платят больше. — Надел очки. И посмотрел на прокурора решительно: — Но вообще, девчёнка права! Нас об этом предупреждали.
— Кто-о? — изумился прокурор.
— Надо уметь учиться и у врагов! — Душан поднял руку с сухим перстом.
— «Слезами залит мир безбрежный»? А ты получаешь многие тысячи? А уборщица двести пятьдесят рублей?