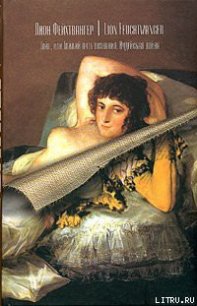Еврей Зюсс - Фейхтвангер Лион (читать полную версию книги .txt) 📗
В народе ликование. Вот это государь! Этот взялся за дело, не считаясь ни с кем. Совсем как на картине, где он штурмует Белград. Подайте ленты, подайте еловые ветви, чтобы украсить картину! Воистину властелин и герой! С ним не пропадешь.
Близ Гирсау от проезжей дороги отходила дорога поуже, проселочная. От нее ответвлялась пешеходная тропинка, которая, теряясь в лесу, упиралась в крепкий высокий забор. Деревья мешали взору проникнуть дальше. Из местных жителей доступ сюда имели только садовник и старик поденщик, который исполнял всякие поручения, оба – люди угрюмые, не склонные отвечать на расспросы любопытных. Известно было только, что какой-то голландец приобрел у наследников прежнего владельца маленький развалившийся домик. Властям он назвался мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатеном и предъявил паспорт, выданный Генеральными штатами. Покупка была оформлена законным порядком, все требования полиции и казначейства выполнялись в высшей степени добросовестно. Голландец жил в домике вместе с какой-то молоденькой девушкой, с ее горничной и одним слугой. По округе ходил назидательный рассказ о громиле, который попытался пробраться в этот уединенный домик. Его будто бы поймали, связали. Голландец ничем не покарал видавшего виды отпетого головореза, только запер его на целую ночь в комнате, полной книг.
Наутро бродяга будто бы, весь дрожа, в полном смятении выбрался из лесу и навсегда покинул здешние края.
Временами выплывали слухи, будто голландец и есть Вечный жид, но скоро снова умолкали. Он почти не показывался в городке, совершал уединенные прогулки по лесу, встретить его можно было очень редко. Мало-помалу к нему привыкли. Где-то в лесу за высоким забором и развесистыми деревьями живет голландец, и пусть даже он делает что-нибудь недозволенное, но шума не производит и никого не беспокоит.
Здесь же в Гирсау проживал и магистр Якоб Поликарп Шобер, тот самый, что руководил собраниями библейского общества, в котором состояла Магдален-Сибилла. Упитанный, толстощекий молодой человек, который тихо совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки, однажды, машинально следуя за птицей, перелетавшей с дерева на дерево, дошел до высокого забора, без долгих размышлений и без особого труда перелез через него, миновал изгородь, образованную высокими деревьями, внезапно очутился у начала просеки и увидел дом голландца посреди тюльпанов и идущих уступами клумб с другими, ему незнакомыми и тщательно выхоженными цветами. Странное впечатление производил этот дом – ослепительно белый кубик, залитый лучами солнца. А перед домом был раскинут примитивный навес, и под ним лежала, потягиваясь в полудреме, одетая на чужеземный лад девушка с матово-бледным лицом под иссиня-черными волосами. Магистр замер в изумлении и благоговейном восторге, потом на цыпочках удалился. Впоследствии в его мечты о небесном Иерусалиме неизменно проникал образ девушки под навесом перед белоснежным домом среди тюльпанов.
Рабби Габриель предоставил девушке полную свободу. Ноэми расцветала, тихая и нежная, не ведая больших страстей. При ней были старый, дряхлый, молчаливый слуга и вывезенная из Голландии горничная, преданная, добродушная, болтливая Янтье, которая долгие годы заботливо за ней ухаживала. Порой девушке хотелось повидать людей, но раз дядя держал ее в уединении, значит, так было лучше. Да и порожденные мечтами, вычитанные из книг люди были лучше живущих где-то там, внизу.
Она наслаждалась книгами, которые дядя читал вместе с ней. Это были по большей части древнееврейские книги, а среди них загадочные, таинственные книги Каббалы. Она не вдумывалась в них, она их видела. Каббалистическое древо, небесный человек были для нее зримы и осязаемы. Буквы-числа, составляющие имя Божие, двигались в священной пляске, пестря переливчатыми значками, многообразные фигуры священной науки непрерывно шевелились, треугольники карабкались вверх, квадраты ползли вниз, пятиконечная звезда перелетала с вершины на вершину. А семи– и девятиугольники вытягивали свои острые углы, одного грозили проколоть, другого ласкали своим прикосновением. И все сплеталось в многоликом стройном танце. Дядя учил: в каждом стихе, в каждом слове, в каждой букве Писания заключен сокровенный смысл. Он открывается тебе, когда ты сравниваешь эти слова с другими местами Писания, когда ты преобразуешь числовое выражение букв. Взгляни, вот бумага и на ней – немножко черной краски. А между тем она живее любого живого человека, она – уста, говорящие для вечности. Разве это не чудо из чудес? Много тысячелетий тому назад кто-то продумал, прочувствовал эти слова. Мертвы уста, впервые произнесшие их, мертв мозг, впервые подумавший их. Но рукой своей человек написал их, и, пока он их писал, дух Божий вселился в них, и ныне ты через многие тысячелетия так же продумываешь и постигаешь их. В том, что написано, присутствует Бог. Буквам даны жизнь и движение, буква переходит в число, число в звук, на веки вечные. То, что написал человек, отделяется от него и живет далее собственной жизнью и становится внятным всякому другому. Но лишь посвященный ощущает Бога во всем, что написано.
Так учил рабби Габриель. Ноэми слушала, силясь понять его слова. Но события священной истории не надолго принимали строгую форму отвлеченных мистических понятий, в которую втискивал их дядя. Очень скоро они вновь облекались плотью, расцвечивались яркими красками и волновали девичью кровь очарованием пестрых сказок и доблестью легендарных подвигов.
Она читала в Песни Песней: «Возлюбленный мой начал говорить мне: „Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Голубица моя! Голубица в ущелье скалы, под кровом утеса! Покажи мне лицо твое! Дай мне услышать голос твой. Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно!“
Она сидела, воплощение нежности и внимания, и проникновенным взором скользила по большим, массивным древнееврейским буквам. Лицо у нее было как у отца, очень белое, горделиво изгибалась стройная шея, в глазах затаились грезы, древние грезы прародителей, голову она оперла на ладони, и плавно округленные руки переходили в нежную покатость плеч.
Рабби Габриель объяснял, что прочитанное ею иносказательно говорит о сотворении мира, цветы – это праотцы, и голоса юношей, изучающих тайны Писания, споспешествуют тому, что мир стоит и праотцы являют себя потомкам. И он с большим знанием и мудростью все расчленял и снова собирал, а затем умолкал и задумывался. Она слушала его и верила ему, но едва он кончал, как цветы вновь становились цветами и ей слышался несложный и ласковый напев: «Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения наступило, и голос горлицы слышен в стране нашей». И она закрывает глаза и внимает манящему голосу, прислушивается, не смеет вздохнуть: вот-вот сейчас из-за деревьев появится пастух, чьи дивные слова звенят серебряными переливами. Но никто не идет.
Конечно, библейские герои и благочестивые мужи были таковы, какими показывал их рабби Габриель. Но когда он уходил, Ноэми смотрела на них собственными глазами. Она сама была Фамарь, любившая Амнона, она была Рахиль, бежавшая с Иаковом, была Ревекка у колодца. И Мириам, плясавшая под напев победной песни над потопленными Господом египтянами, – тоже была она. Но никогда не была она Иаилью, вбивающей кол в висок Сисаре, и не была Деборой, которая была судьей во Израиле. Тех немногих людей, которые ее окружали, она перевоплощала в героев библейских легенд: Агарь походила на болтливую служанку Янтье, у пророков были блекло-серые, окаменевшие в скорби глаза дяди и его приплюснутый нос, и говорили они его скрипучим сердитым голосом.
Но у героев – у всех была осанка отца, его лицо, его глаза, выпуклые, крылатые, его вкрадчивый, убедительный голос. Отец! Яркий, блистательный! Ах, почему он так редко приезжает! Повиснуть у него на шее – вот в чем жизнь, а прочее только ожидание его приезда. Всех героев Священного Писания она видела в его образе. Самсон, что сразил филистимлян, был одет в его оливковый кафтан и стремительно шагал, ослепительный и опасный, в его позвякивающих шпорами ботфортах. Давида, что поверг Голиафа, она видела в красном, изящно скроенном фраке, в котором отец приезжал в последний раз, и поднятая с пращой рука откидывала аккуратно наплоенные манжеты. Но – увы! – волосы, которыми Авессалом запутался в ветвях дерева, были густые каштановые кудри отца, она замирала от сладострастного ужаса, видя это, а когда Давид взывал: «О Авессалом! Сын мой!» – он стенал скрипучим голосом дяди, и те глаза, что закрывал он навеки, были огненные любимые глаза отца.