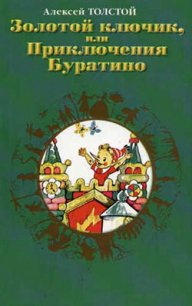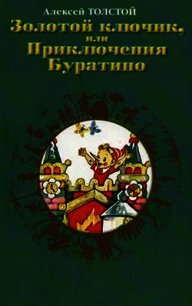Похождения Невзорова, или Ибикус - Толстой Алексей Николаевич (лучшие бесплатные книги txt) 📗
– Окромя пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.
– А когда в Константинополь?
– Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши, – зайдемте в кофейню.
– Благодарю вас, в другой раз.
Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой, – остатка от греческого погрома четырнадцатого года, – играла шарманка.
Пестрая, в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же: «Вите, виге, Венизелос» – утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.
Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венизелоса, снова нырял в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.
– Лидия Ивановна, как спали?
– Ну, оставьте, пожалуства, мы еще не ложились.
– Все кутите?
– Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору – смотреть вид. Потом – купаться. Нет, право, здесь чудно.
– Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди – клопчик.
– Спасибо.
Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.
Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»
Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.
План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри – золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами – ибикусами, – он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полной унылых дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном.
– Дозволено все, господа, откройте форточки, – говаривал он в кофейной за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил, – и не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.
– Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа, – толковал он тому же офицерству. – Революция, пролетариат, власть Советов – одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет, или с детства над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было больше, – на меня одного кинуться вдесятером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо – с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.
– Верно, правильно, браво, главное – умно, – шумело офицерство, дымя папиросами.
– Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Толстого, это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разворуют, потом ищи с них – дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам – у себя в именье – из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощадили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают – Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал», – оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.
У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.
Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить – опять страшили последствия.
Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.
Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов, – они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.
А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные пароходики – шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовный! проклятие вам, большевики!
Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем островке, в прошлом – развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать, сегодня – стирка в рукомойной чашке истлевшего бельеца, на ужин – остатки кроликовой кошки, в минуту тишины – взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее – как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле идущего на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.
Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами.
– Верх цивилизации – роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное – предрассудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.