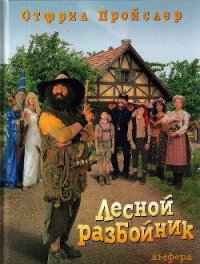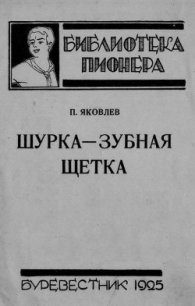Источник. Книга 2 - Рэнд Айн (серия книг .txt) 📗
Он рассмеялся. Он не хотел смеяться, но уже не мог остановиться.
— Доминик. — Ее поразило, как он произнес ее имя. Это дало ей силы выслушать последовавшие за этим слова: — Я хотел бы сказать тебе: то, что ты сказала, было для меня соблазном, во всяком случае на мгновение. Но это не так. Если бы я был жестоким человеком, я бы принял твое предложение. Чтобы увидеть, как скоро ты начнешь умолять меня вернуться к строительству.
— Да… Возможно…
— Выходи замуж за Винанда и оставайся с ним. Это лучше того, что ты делаешь с собой сейчас.
— Ты не против… если мы чуточку посидим здесь… и… не будем говорить об этом, а просто побеседуем, как будто все идет как надо… пусть это будет получасовым перемирием… Расскажи мне, как ты проводил время здесь, все, что можешь припомнить…
Потом они говорили, это крыльцо пустого дома было словно самолет, летящий в пространстве, откуда не видно ни земли, ни неба; Рорк не смотрел на другую сторону улицы.
Потом он взглянул на часы у себя на руке и сказал:
— Через час поезд на Запад. Проводить тебя до станции?
— Ты не против, если мы пойдем пешком?
— Договорились.
Она встала и спросила:
— А когда теперь, Рорк?
Он повел рукой в направлении улиц:
— Когда ты перестанешь ненавидеть все это, перестанешь бояться этого, научишься не замечать этого.
Они пошли на станцию. Она прислушивалась к звуку его и своих шагов на пустынной улице, ее взгляд скользил по стенам зданий, мимо которых они проходили. Она уже любила эти места, этот городок и все, что было связано с ним.
Они прошли мимо пустыря. Ветер обвил ее ноги обрывками старых газет. Они липли к ее ногам с лаской кошки. Она подумала, что все в этом городе близко ей и имеет право на подобные жесты. Нагнулась, подобрала газету и начала складывать, чтобы сохранить.
— Что ты делаешь? — спросил он.
— Будет что почитать в поезде, — глуповато объяснила она. Он вырвал газету из ее рук, смял и отбросил в сухие сорняки.
Она ничего не сказала, и они продолжили путь.
Над пустынной платформой горела одна-единственная лампочка. Они ждали. Он смотрел на железнодорожную колею, туда, откуда должен был появиться поезд. Когда рельсы загудели и дрогнули, а белый шар головных огней блеснул на расстоянии и уперся в небо, набухая и разрастаясь с огромной скоростью, Рорк не двинулся и не повернулся к Доминик. Стремительно несущийся луч бросил его тень поперек платформы, закружил над шпалами и отбросил во тьму. На мгновение она увидела прямые линии его тела в свете огней. Паровоз миновал их, застучали колеса замедливших свой бег вагонов. Он смотрел на проносившиеся мимо окна вагонов. Она не видела его лица, только линию щеки.
Когда поезд остановился, Рорк повернулся к ней. Они не пожали друг другу руки. Они стояли, молча глядя в лица друг друга, прямо, как по стойке смирно; это напоминало военное приветствие. Затем она схватила свой чемодан и поднялась в вагон. Минуту спустя поезд тронулся.
VI
«Чак: А почему не мускусная крыса? Почему человек воображает себя выше мускусной крысы? Пульс жизни бьется во всякой мелкой твари в поле и в лесу. Жизни, поющей о вечной печали. Давней печали. Песнь песней. Мы этого не понимаем, но кому нужно наше понимание? Только бухгалтерам и педикюршам. И еще письмоносцам. Мы же только любим. Сладкая тайна любви. Все только в ней. Подари мне любовь и брось всех философов в печку. Когда Мэри берет бездомную мускусную крысу, ее сердце раскрывается и в него врываются жизнь и любовь. Из меха мускусной крысы делают хорошую имитацию норки, но не это главное. Главное — это жизнь.
Джейк (врываясь): Скажите, парни, у кого тут есть марка с портретом Джорджа Вашингтона?
Занавес».
Айк с треском закрыл рукопись и глубоко втянул в себя воздух. После двухчасового громкого чтения голос его стал хриплым, и он прочел кульминационную сцену на едином дыхании. Он посмотрел на аудиторию, рот его насмешливо кривился, брови высокомерно изогнулись, но глаза умоляли.
Эллсворт Тухи, сидя на полу, чесал спину о ножку стула и зевал. Гэс Уэбб, распластавшийся на животе посреди комнаты, перекатился на спину. Ланселот Клоуки, иностранный корреспондент, потянулся за своим коктейлем и прикончил его в два глотка. Жюль Фауглер, новый театральный критик «Знамени», сидел не двигаясь; он был неподвижен уже в течение двух часов. Лойс Кук, хозяйка, подняла руки, потянулась и сказала:
— Господи, Айк, это ужасно.
Ланселот Клоуки протянул:
— Лойс, девочка, где ты берешь этот джин? Не будь такой жадиной. Ты худшая из всех известных мне хозяек.
Гэс Уэбб заявил:
— Я не понимаю литературы. Это непродуктивная и напрасная потеря времени. Писатели исчезнут.
Айк резко расхохотался:
— Мерзость, а? — Он помахал рукописью. — Настоящая мерзость. Зачем, вы думаете, я ее написал? Покажите мне кого-нибудь, кто мог бы написать худшую вещь. Такой гадкой пьесы вы в жизни не услышите.
Это не была очередная встреча Совета американских писателей, скорее, неофициальное сборище. Айк попросил нескольких своих друзей послушать его последнюю работу. К двадцати шести годам он написал одиннадцать пьес, но ни одна из них не была поставлена.
— Ты бы лучше отказался от театра, Айк, — предложил Ланселот Клоуки. — Творчество — вещь серьезная, она не для случайных подонков, решивших попытать счастья. — Первая книга Ланселота Клоуки — отчет о личных приключениях за границей — уже десятую неделю держалась в списке бестселлеров.
— Отчего же, Ланс? — сладким голосом протянул Тухи.
— Ладно же! — рявкнул Клоуки, — хорошо! Налей-ка выпить.
— Это ужасно, — заявила Лойс Кук. Ее голова устало перекатывалась из стороны в сторону. — Совершенно ужасно. Так ужасно, что даже великолепно.
— Чепуха, — сказал Гэс Уэбб. — Зачем я вообще сюда хожу? Айк запустил рукопись в камин. Она натолкнулась на проволочный экран и упала обложкой вверх, тонкие листы помялись.
— Если Ибсен мог писать пьесы, почему же я не могу? — спросил он. — Он гений, а я бездарь, но ведь этого недостаточно для объяснения.
— В космическом смысле нет, — подтвердил Ланселот Клоуки.
— И все же ты бездарь.
— Не повторяй. Я первый сказал.
— Это великая пьеса, — произнес чей-то голос — медленно, устало и в нос. Голос звучал в этот вечер впервые, и все повернулись к Жюлю Фауглеру. Один карикатурист нарисовал его знаменитый портрет — две соприкасающиеся окружности — маленькая и большая, большая была животом, маленькая — нижней губой. На нем был великолепно сшитый костюм, цветом напоминавший, как он говорил, merde d'oie — гусиное дерьмо. Руки его постоянно скрывали перчатки, он всегда ходил с тростью. Жюль Фауглер был знаменитым театральным критиком.
Фауглер протянул к камину трость, подцепил рукопись и подтащил по полу к своим ногам. Он не поднял рукопись, но повторил, глядя на нее:
— Это великая пьеса.
— Почему? — спросил Ланселот Клоуки.
— Потому что я так сказал, — ответил Жюль Фауглер.
— Это шутка, Жюль? — спросила Лойс Кук.
— Я никогда не шучу, — ответил Жюль Фауглер, — это вульгарно.
— Пошлите мне пару билетов на премьеру, — скривился Ланселот Клоуки.
— Восемь восемьдесят за два места, — сказал Жюль Фауглер.
— Это будет гвоздь сезона.
Жюль Фауглер повернулся и увидел, что на него смотрит Тухи. Тухи улыбнулся, его улыбка не была легкой и беспечной. Это был одобрительный комментарий, признак того, что Тухи считал разговор серьезным. Фауглер посмотрел на остальных, взгляд его был презрителен, но смягчился, остановившись на Тухи.
— Отчего бы вам не войти в Совет американских писателей, Жюль? — спросил Тухи.
— Я индивидуалист, — сказал Фауглер. — Я не верю в организации. И кроме того, разве это необходимо?
— Нет, совершенно не обязательно, — ответил Тухи весело. — Не для вас, Жюль. Нет ничего, чему я могу вас научить.