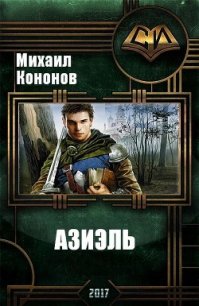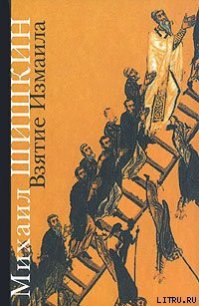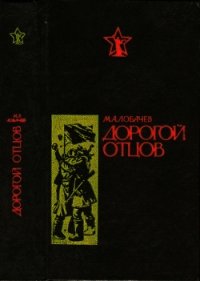Голая пионерка - Кононов Михаил Борисович (читаем книги бесплатно .TXT) 📗
Мимо учительской высокой избы, мимо школы и сельсовета, где трепетал над крышей линялый, почти что белый флажок, бравурные, как прибывающая гроза, проносили свой дипломированный экстерьер с достоинством и честью фиолетовые племенные быки колхоза «Имени ОГПУ». Поблескивали военной сталью кольца у них в ноздрях. Сверкали кривыми кинжалами полированные рога. Полыхали кровавые яблоки глаз, каждое с кулак кузнеца.
Вослед коллекционным прославленным производителям выступали приставленные к ним навечно три зоотехника с гармошкой. У каждого из них на запыленном пиджаке блистала медаль за славу. Зоотехники шли шеренгой, по-солдатски. У них была бронь от призыва прочная. Они размахивали руками и пели: «Малой кровью, могучим ударом!…» За ними каурая кобылка, в исправной сбруе и городских кожаных шорах для форсу, понуро влекла старинную легкую бричку. На ее лакированных черных дверцах сверкали опереточным золотом начищенные графские гербы с двумя стоячими львами и надписью по-латыни: «Дэус консерват омниа» – Бог сохраняет все, стало быть, консервирует. В бричке, все оглядываясь назад и крича что-то непонятное, как будто на их языке упрекала лошадей или коз, восседала пожилая пьяная цыганка в синем шелковом платье, простоволосая. На полных плечах – черный полушалок рытого бархата с серебряными кистями. Одной рукой, тяжелой от браслетов и колец, цыганка по-мужски подергивала обвислые вожжи. Одновременно давая грудь крупной кудрявой девочке лет шести, сидящей у нее на коленях. Девочка языком мусолила сосок, а сама рассматривала, переливая в смуглых ладошках, золотое материнское монисто, длинное, чешуйчатое, как змея.
Сразу за бричкой вышагивали городские ровные пионеры. На них-то и кричала цыганка. Пионер поменьше ростом изредка бил одной палочкой в красный барабан – с раскатистым треском. Ударит – и засмеется. И гладит себя по голой, вчера остриженной наголо, маленькой голове с узким голодным затылком.
– Ну вот и свету, почитай, конец: двинулась Русь!…
У Мухи за спиной крестилась бабушка Александра.
– Ноев ковчег, прости меня, Господи!… Архистратиже Михаиле, отжени мене от лукаваго, старости моея ради! – Она повернула Муху к себе лицом и насильно ее перекрестила, больно ткнув щепотью в глаз.
Муха вырвалась, сбежала с крыльца. Двинулась наперерез стаду к избе сельсовета, где трепетал над крышей линялый флажок. Там уже дожидались деревенских парней военные грузовики. Шофер в гимнастерке и высоких сапогах окатывал из ведра черную командирскую «эмку» – точь-в-точь папину как будто.
Мурашки бежали у Мухи по спине, когда она останавливалась, пропуская прущую валом скотину. От пыли во рту было кисло, гортань чесалась. Муха чихала, утирала ладонью слезы. Чихала снова, снова, уже утонув в пелене слез, уже не чая выбраться из водоворота животной плоти, что сопела, чавкала и топотала, как жадное болото. И ревели стада. Щелкал бич. Вихрем свивался темный ужас скотов, отрываемых от земли клубящейся всесветной рекой исхода.
Взволнованно, словно на каблучках невесты, стайкой семенили двухлетки-телочки, покачиваясь и бесстрастно помыкивая. Нежно розовела кожа под слабым ворсом у них на щечках и на костистых невинных бедрах. Муха узнала по темному пятну на холке смирновскую смирную Зорьку. Протянула руку погладить ее, но телка дико шарахнулась, отдавив копытом Мухе большой палец левой ноги.
Захваченная буйным, едва ли не безумным теченьем смешанного стада, Муха поневоле вбирала телом пронизывающие токи страха, глухое горе безвинных животных. Не ведая над собой Бога, кроме человека, отданные землей в его власть, когда-то свободные, они утратили давно звериную независимую мудрость. Двух-трех суток бегства впроголодь им хватило, чтобы забыть хранимый человеком строй млекопитающего порядка. Тень разума, охранявшего безмысленный скотий покой, рассеивалась, как дорожная пыль, над бурунами голодающей плоти.
Пробиваясь сквозь токи и завихренья рогатых голов, с глухими, задернутыми пылью глазами, мимо коровьих длинных хвостов, вдоль острых пупырчатых хребтин, Муха переживала одичанье домашней скотины, как напасть, как собственную болезнь. За месяцы деревенской жизни Муха привыкла уважать трудящихся животных едва ли не наравне с человеком.
– Смута, смута окаянная! – говорила с крыльца Богу бабушка Александра. – Не ведают, что творят, архангелы Твои, Господи! Хоть бы додумались, живоглоты, к водопою скотину повернуть…
Юный, как облачко после дождя, взрослеющий орловец становился вдруг на дыбы, закидывал березовые ноги в золотых несношенных копытах старой корове на круп и ржал над собственной шалостью. Приглашал ликовать от силы движенья табунящихся каурых братьев и старого обреченного мерина в седых яблоках, взбодрить стремясь и чуждых двух кабардинских иноходцев в белых цирковых уздечках, с перерубленными торопливым погонщиком удилами, и все стада ревущие, и табуны на скаку, и клубящиеся отары, по воле, быть может, злопамятного скотьего бога Велеса, утопленного в Днепре чуть не тысячу лет назад, изливаемые теперь войной из горизонта в горизонт.
Через равнину с хлебами, окрашенными рассветом, и синий холм с пустой сквозной колокольней.
Через малое сельцо Вельцо и деревню Кондрюшино, разбуженную спозаранку, – четыре порядка изб с распахнутыми дверьми и ставнями, с новыми заборами и мятущимися курами, черными стариками и белыми детьми.
Сквозь последние материнские заклинания, кресты и всхлипы.
Сквозь дыханье и слезы девочки Маши Мухиной. На крыльце сельсовета она раз за разом чихает и теребит за плечо, чихает и обнимает мирового парня Звонарева Алексея. И чувствует вдруг щекой, что Алеша, сосед ее по школьной парте, сбрил сегодня свои белые шелковые волосы на подбородке – Муха любила прихватывать их зубами, когда Алексей целовал ее в щеки, провожая после танцев в клубе до дому. И чихает Муха, и летит голубая глиняная пыль, как последний дым сгоревшего за ночь заката. И жесткие лямки отцовского солдатского сидора уже схватили Алексея за плечи.
– Не жди, – сказал Алеша. – Не вернусь.
Муха перестала чихать. Ее нос, губы и дыханье уже поняли, что сказал Алеша, а сама она еще не осознала. И спросила:
– А?
Он поцеловал ее в мокрый нос и пошел к машинам.
Парни молча и без игры залезли в кузов серой тарахтящей полуторки. Поплыл грузовичок навстречу топотавшей с пригорка скотине. Галопом разбегались, спотыкались в канавах у обочин коровы, выкатывали жадные белки плачущих глаз. Подняв морды, они уповали гулко на защиту и справедливость человека. Дрожа, еле-еле выпрямляли ноги, провисая хребтом от недоенного воспаленного вымени.
Машины продвигались на малой скорости, почти непрерывно сигналя голосами жалкими и злыми. Перед колесами передней полуторки река рогатых голов растекалась на два рукава. Грузовички и командирская «эмка» были будто три острова, неподвижные в стрежне мощной реки. Муха видела, как из окна поезда, что движется сама земля, вместе со стадом, в нее вросшим, грузовички же качаются и тарахтят на месте. Они тарахтят, трясутся, угловатые, вспыхивают глазами, а под ними земля, с ее дорогой, канавами и полями окрест, с быками-валунами, и волнами пенистыми овечьих табунков, и багровыми, бурыми, молочно-черными бурунами бокастыми симментальскими, костромскими, – сама земля наворачивается, проскальзывает под колесами и дальше, дальше летит, как ковер-самолет. Себя же саму Муха чувствовала как бы привязанной к машинам, покидающим землю, и дорога уплывала у нее из-под ног, покачиваясь и дрожа.
Острова войны плыли навстречу реке спасенья, разрезая ее неживыми голосами автомобильных сигналов. Алеша и другие ребята стояли в кузове, махали матерям и девчонкам, глотающим пыль из-под колес. Командир, с портупеей через плечо, примостившись на подножке грузовика, кричал на мальчишек, забегавших дорогу полуторке.
Муха давно знала, что с войны не возвращаются. Не вернулись с финской ленинградские ее соседи-приятели Сеня Глазман и Ваня Енакиев. Не вернулись и деревенские, известные ей по рассказам Алеши, – Гошка Вепрев, скотник Витя Сомов, братья Селивановы, Фрол и Гордей. И многие еще, многие. Из кондрюшинских вернулся только Серега Евграфов, кузнец, без руки пришел. Он сидел в клубе, на танцах, каждую субботу, хоронился в углу да лузгал семечки, а шелуху ссыпал в тот карман пиджака, над которым болтался пустой рукав.