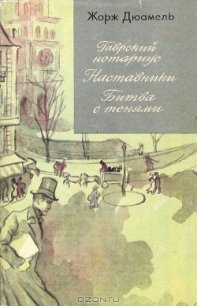Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье - Дюамель Жорж (читать книги полностью .txt) 📗
Старшие братья спят у себя в комнате, а Сесиль в кабинете у отца. Я слышу их дыхание, а порой они что-то бормочут во сне. Царит мир. Все вокруг так спокойно и надежно.
А между тем где-то совсем близко притаилась жуть. Это порождение мрака, дочь черной ночи. Такая хитрюга, такая выдумщица, она то и дело меняет лицо, принимает все новый облик. А порой — и это ужасней всего! — она теряет и лицо, и всякий образ.
Бесконечно тянется зимняя ночь. Теперь уже все улеглись, даже папа со своими вечными вздохами, даже мама, которая как будто торопится уснуть, чтобы поскорее приступить к утренним трудам.
Мальчуган бесшумно встает. Он идет босиком, вытянув перед собой руки, в переднюю и ощупью удостоверяется, что дверь заперта на замок, что засов задвинут, Несколько мгновений малыш стоит в нерешительности. Что бы еще проверить? Не доносится ли из кухни легкий запах газа? Мальчик скользит как тень по каменному полу, еще сырому после вечерней стирки. Маленький ночной дозорный ощупывает газовый кран и уходит, потом вдруг возвращается. Он не вполне уверен, что кран как следует закрыт. О, сомнения! О, беспокойство! Два-три раза сряду он проводит онемевшими пальцами по крану, рискуя его открыть. Опасаясь, что у него так и получилось, он проверяет еще раз.
Это все? Нет. Еще окно. Оно заперто. Потянувшись к нему, мальчуган задевает папино кресло. Пустяк — еле уловимый шум, какой, верно, производят привидения, пролетая по комнатам. Но вот раздается голос, сонный, как бы затуманенный:
— Кто там? Кто здесь ходит? Это ты, Жозеф?
Молчание. Душа матери погружается в забвение, как в бездну.
Теперь малыш разыскивает свою постель. Он озяб. У него стучат зубы. Ему представляется, будто он блуждает где-то во мраке, как неприкаянная тень. Внезапно ему становится страшно самого себя.
Постелька! Убежище! Раковина! Закрыт со всех сторон: внешние враги уже не страшны. Остаются другие, неуловимые, чудовища, не имеющие ни тела, ни формы, ни цвета, — мысли, с которыми нет сладу.
Что это за пришлец, фосфоресцирующий в темноте? Каким чудом он проник к нам в дом? Он как-то странно продвигается, не переступая ногами. Вместо тени отбрасывает мертвенный свет, растекающийся по комнате. Под мышкой у него портфель, он в сюртуке, с белым галстуком и в каком-то зловещем цилиндре. Он молча ухмыляется. Он угрожающе безмолвен. Он чертит пальцем на стене зелеными огненными буквами:
«Я Гаврский нотариус».
Но вот он куда-то проваливается. Растворяется в ночном мраке, как кусок сахара в воде. Вслед за ним появляются дамы. Ой! Ой! Это тетушки из Лимы! У них смуглые лица, почерневшие на тропическом солнце, жгучие кровавые губы, высокие испанские гребни. Навстречу им — дядя Проспер, совсем плоский, выходит из альбома, где наклеены семейные карточки.
И вдруг — страшный шум! О, ужас! Это скелет. Он улыбается, скаля зубы. Он в треуголке, держит портфель с медной цепочкой, совсем как у тех господ, что приходят предъявлять ко взысканию векселя. Он снова улыбается и протягивает руку, требуя денег. Призраки, сбившись в кучу, протягивают руки и хором требуют денег, денег, денег, денег!
Потом привидения улетают. Реальный мир заявляет о себе: кто-то ходит в соседней квартире, где живут одни пауки. Кто-то ходит. Вот он кашлянул тихонько, но вполне внятно. Теперь совсем другие звуки: плачет ребенок. О! Кто-то скребется за стеной. Прямо около моего дивана, близ моего сердца. Внезапно волосы у меня будто оживают. Они встают дыбом. Я слышу, как они шевелятся.
Но вдруг нахлынули новые впечатления. Что там за шум вдалеке, на улице! Это тревожные сигналы пожарных. Опять огонь. Огонь! Прошлой зимой целый склад сгорел под нашими окнами. Запах гари и жар бушующего пламени врывались к нам в окна. Боже мой, что станем мы делать, если нам придется спускаться с шестого этажа, на веревке, в пустоту, или даже прыгать вниз на матрацы, разостланные для этого на земле? Бррр!.. А! Крики пожарных замирают вдалеке. На этот раз нам не угрожает пожар.
Однажды вечером я был разбужен не призраком нотариуса, но острой болью, свербившей глубоко в ухе. Еще не замер мой первый крик, как мать уже вскочила на ноги. Она подбежала к моей постели и долго, пристально смотрела на меня. Мне стало легче от этого взгляда. Но вот я снова заплакал.
— Потерпи, мой дорогой! — говорила мама. — Не мешай отцу работать.
Папа влил мне в больное ухо каплю теплого масла, потом снова сел за работу. У него был встревоженный вид. Он обхватил голову руками и явно старался сосредоточиться и углубиться в свой труд. Это нелегко ему давалось. Тут мама закутала меня в одеяло и стала носить по всей квартире. Она крепко держала меня и баюкала, как грудного младенца, тихо-тихо напевая жалобную песенку о женщине, раненной в лоб. Я все еще всхлипывал, и она горячо просила меня:
— Умоляю тебя, мой родной, не мешай работать отцу. А завтра я куплю тебе что-нибудь очень хорошее. Чего бы ты хотел?
Я перестал плакать и ответил:
— Золотую рыбку.
На следующее утро нарыв в ухе сам прорвался. У меня был еще сильный жар. После кофе, ублаготворив мужа и отправив детей, мама одела меня потеплее. У нее были плотно сжатые губы и почти суровое выражение лица, какое появлялось всякий раз, как одному из близких грозила хоть малейшая опасность. Она закутала мне голову шарфом, наспех оделась и взяла меня на руки. Я был уже большой и тяжелый. Мама самоотверженно дотащила меня до угла проспекта и остановила омнибус.
Стоит мне закрыть глаза, как я вновь вижу больницу. Передо мной встает вестибюль с его тревогами, с его особым запахом, с чугунной печью и деревянными скамейками. А потом — приемная. Она длиннющая, как коридор, и полутемная. Врачи в белых халатах сидят все рядышком, как рабочие на фабрике. У каждого своя лампа, свое зеркальце на лбу, свои инструменты, свой столик, свой больной, откинувшийся к стене с обреченным видом.
То и дело слышатся жалобные возгласы:
— Осторожно, сударь. Ох, прошу вас, потише!
И стоны то повышаются, то понижаются, совсем как в песне. В самом деле, можно подумать, что поют песню, и от этого еще страшней.
Пришел и мой черед мучиться и протяжно стонать. Мама держала меня обеими руками и приговаривала с отчаянием в голосе:
— Я куплю тебе золотую рыбку, мой родной. Уши, это так болезненно. Золотую рыбку и еще что захочешь. Только не двигайся, ради бога! Чтобы доктор все хорошенько разглядел!
Я удержался от слез и попросил птичку.
Мое выздоровление затянулось на целых две недели, И мне пришлось несколько раз посещать больницу. Я получил золотую рыбку и птичку. Обе они прожили у меня достаточно долго, чтобы стоило о них упомянуть в истории нашей жизни. Я полагаю, что, если бы они внезапно обрели дар речи, уж они-то наверняка высказали бы свое мнение о Гаврском нотариусе. Временами, возвращаясь из школы, я замечал, что мама уже не такая грустная, у нее был бодрый взгляд и успокоенное лицо.
— Казалось бы, — говорила она, — нет ничего общего между нами и золотой рыбкой. А между тем это неверно. В те часы, когда я остаюсь одна, — представь себе! — это крохотное существо составляет мне компанию. Это движение, это жизнь, нечто хоть капельку на нас похожее. Мне, конечно, не пришло бы в голову разговаривать со швейной машинкой, но я беседую с рыбкой, видишь ли, большей частью с рыбкой. Канарейка уж очень шумливая, никогда не слушает, что ей говорят.
Хоть я был в то время еще малышом, я легко мог себе представить, что именно поверяла мама рыбке в минуты одиночества. К концу зимы в нашей семье все острее чувствовалась нужда. Самые разнообразные предметы, доставшиеся нам по наследству, покидали нашу квартиру, и в этом не было ничего таинственного, так как слово «ломбард» произносилось запросто и становилось прямо-таки навязчивым. На наших глазах исчезли гравюры в рамках, фаянсовые тарелки, мраморная доска с камина. Стенные часы тоже отправились туда же.
— Не беда, — говорил папа, тяжело вздыхая. — Можно увидеть из окна, который час на железнодорожных мастерских.