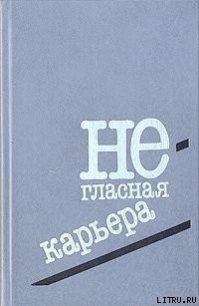Венгерский набоб - Йокаи Мор (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
– Да, но вы забываете, что она при их жизни с ними разошлась, – религиозный долг уже утратил тем самым свое значение.
– Ах, да оставьте вы меня в покое с этим вашим крючкотворством!
И, засвистав, Абеллино поворотился к банкиру спиной. Прекрасный ответ, коли нечем крыть.
Индийская гостья со всем пылом души искала между тем неизвестного своего рыцаря. Пыл этот перешел сначала в гнев, потом в отчаяние: его нигде не было.
Целыми днями разъезжала она по Парижу, обедая в ресторанах, обходя самых посещаемых публикой мороженщиков, а вечером – театры, где в бинокль изучала все мужские лица; но тщетно! Его найти не удавалось. Да и отыщешь разве в безбрежном людском море, кого пришлось увидеть только раз? Исчез, канул бесследно. Кто же это мог быть? И зачем ему скрываться? Может, он вообще не показывается никому? Ведь даже толков о нем не слышно никаких. Так близко от пего стояла, руку держала в руке, так безраздумно отдалась под его защиту – и даже словечко забыла сказать, просто спросить: «Как вас зовут? Когда я вас еще увижу?» Хоть на эти вопросы обладать ответом кажется теперь величайшим счастьем.
Ночи напролет не смыкает она глаз. Старая Хюрмала, еще ее кормилица, по-своему, по индусски, ворожит ей, гадая, кто этот юноша, увидит ли она его.
На низенький столик ставит пузатый, длинногорлый сосуд из стекла, полный влаги, густой, но бесцветной. В узкое горлышко льет другую прозрачную, золотистую жидкость, и сосуд тотчас туманится внутри, будто набухая облаками, которые, клубясь, опускаются вниз, все сгущаясь, темнея. Как осядут, внутренность сосуда чудесным образом оживает, словно фигурки, тени проступают, колеблясь, тесня и сменяя друг друга. То знакомые лица, то очертания домов, городских улиц мнятся разгоряченному воображению. Постепенно темные клубы проскваживаются будто радугой. Росная зелень лугов и алый румянец зорь трепещут, мерцают в них; фигуры волшебным отблеском озаряются изнутри. Наконец игра туманных картин замедляется, очертания смываются, радужные краски блекнут, чудесное коловращение опадает, и одна тусклая, безжизненно серая мгла заволакивает все.
Старуха дуэнья, чье лицо, не избороздив, лишь выдубило благосклонное время, нижет, плетет усердно связные истории из смутных образов, наплывающих хаотически друг на друга; объясняет своей госпоже, где сейчас юный незнакомец и что с ним. Вот гуляет по цветущим лугам, идет куда-то, – кругом ало и зелено все. Вот ушел, и все траурно-синим, лиловым стало. А там что за коричневые пятна позади? Убийцы наемные это – выслеживают его, подстерегают. Но рощи, леса укрывают молодого человека, густо-зеленая листва смыкается над ним, прячет ото всех. А вон там, дальше, – фигурка какая-то бледно-желтая проглядывает, проступает сквозь туманные картины, будто ищет кого. Но встретиться, нет, не может. Личики младенческие понизу, змеи летучие поверху сопровождают фигурку: счастье и клевета. Вот обе почти уже рядом: желтая замирает, личики розами расцветают и обвивают ее, змеи голубками вспархивают над ними. Кружатся фигурки, ах, как быстро! Встретятся сейчас. Встретились, слились воедино, – о, диво дивное! Весь волшебный сосуд разом вспыхнул дрожащим розовым пламенем. Госпожа, кого ждешь, придет за тобой, полюбит тебя! Фигурки долу клонятся, тускнеют, расплываются. И ты полюбишь, и ты – его одного, уже навсегда.
Сладостные сны снились той ночью Шатакеле, хотя, пробудясь, убедилась она, что чашки с эликсиром не трогала. Не оттого, значит, ее сны.
Шатакела велела себя одеть; наряд ее сшит был по той фантастической моде, которую подсказало ей собственное, жадное до всего необычного воображение, сочетав покрой индийский и европейский. Перехватывающая лоб белая лента, которая удерживает ниспадающую назад волну черных волос, длинная светло-желтая шелковая накидка, оставляющая открытыми руки в гладких металлических браслетах и спереди, меж оборок, – замечательно красивую узорчатую индийскую юбку. Одни лишь восточные ткачи отваживаются подбирать такие цвета, кричаще-яркие и все же гармоничные. На груди – тройной рубиновый аграф, а на тонкой изящной талии и стройных бедрах – совсем уж вразрез с тогдашними донельзя прозаичными кургузыми платьями – широкий, расшитый золотом и серебром красный кушак.
На звонок ее входит Хюрмала и, пока камеристки заплетают, укладывают волосы в тяжелые крупные витки, – подает визитные карточки, оставленные накануне посетителями. Вчера Шатакела не принимала, сказавшись больной, – то ли вправду измученная любовным своим недугом, то ли из каприза.
Хозяйка дома просматривает карточки. Сплошь знакомые, надоевшие, отвергнутые все люди. Ах нет, есть и новый один.
Единственное имя, которого она не слышала пока. Единственное, которое невозможно даже прочесть по правилам знакомых ей языков. Фамилия впереди – так нигде не пишутся, ни в одной известной ей стране. Ведь вот и остальные не в обратном же порядке напечатаны: Vicomte Abellino de Carpathy; Comte Fennimore de l'ile de Szigetvar; Chevalier Charles de Calacci [149] (читай: Карой Калачи). Почему же этот такой оригинал? И титул на последнем месте, в самом конце: «Сент-Ирмаи Рудольф, барон».
Все карточки выскользнули у нее из рук, одну эту положила она на колени.
А вдруг это он, кого она так ждет? Магический сосуд предсказал встречу, значит, должно сбыться.
Бедная пришелица из Индии! Она даже помолиться не могла об исполнении своих желаний; даже этого утешения лишенная, только немой тоске, да обманчивым чарам, да быстролетным грезам предавалась ее душа.
– Никого ко мне не впускать! – велела она Хюрмале. – Только того, кто вот эту карточку оставил. Не придет он еще, не обещал?
Никто из прислуги не мог припомнить.
– Каков он собой с виду, лицом? – с жадным нетерпением расспрашивала госпожа.
Но никто толком не знал. Как-то сумел он обмануть их внимание, и вместо него описывали остальных, и без того известных Шатакеле.
В томительном, неотступном беспокойстве прошел день. Коляски, кабриолеты останавливались по временам у ее отеля, колокольчик дребезжал у ворот, и экипажи уезжали опять. Являлись все не те, кого поджидали.
Уже вечер наступил. Вконец измученная ожиданием, Шатакела не находила себе места: то приляжет, то вскочит, за одно занятие примется, за другое – и бросит.
Вдруг колокольчик у привратника снова звякнул, и острый слух афганки уловил звук мужских шагов по лестнице.
Сердце ее заколотилось.
Он!
Прижав руки к груди и глаз не смея поднять, опустилась Шатакела на краешек кушетки. Она робела, замирала, как юная девушка в ожидании жениха.
Зашуршали ковры; кто-то шел. Он, он! И, не глядя, Шатакела уже знала, что он.
Да ведь и сколько раз уже рисовалось: вот входит юноша, ее отважный герой; взор его, холодно сосредоточенный на пожаре, теперь так чарующе ласков; глаза, смотревшие смерти в лицо, лучатся нежностью; подсел и шепчет на ухо… сколько снилось…
И сейчас точно так же.
Юноша вошел, поздоровался тихо, устремил на нее чарующе-проникновенный взгляд, полный самой нежной любви, подсел… и Шатакела испугалась: неужто и это лишь сон?
Но нет. Он въявь сидит рядом, – тот, кого она ждала, искала, любила. Это не греза уже: плечо ощущает теплое его дыхание.
– Так вы, значит, – Рудольф? – едва слышно, как с бесплотным видением, которое вот-вот опять исчезнет, заговорила Шатакела. – Как я истомилась, не зная, как в мыслях назвать вас, видя перед собой лишь ваше лицо и не имея, кому сказать…
– Я тоже много думал о вас, – ответил Рудольф, на чьем лице и в этот момент не отражалось ничего, кроме обычного ледяного спокойствия. Лишь влюбленным глазам виделась в нем ласка. Вот такие бледные, хладные лица несут погибель прекрасному полу. Мужчины к ним равнодушны, но женщин, влюбленных женщин они сводят с ума. – Знаете, что думал я в тот роковой час, когда вы вверили мне вашу жизнь?
149
Виконт Абеллино де Карпати; князь Фенимор де л'иль де Сигетвар; шевалье Шарль де Калаччи (фр., ит.)