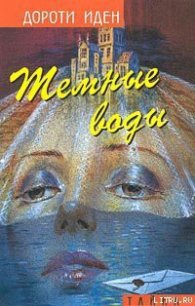Росстани - Шмелев Иван Сергеевич (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .txt) 📗
III
Как-то приказал он Степану взрыть по заборчику, где солнце, грядку под обещанные сыном левкои. Сел на стул и смотрел, как копает Степан – неумело, по-бабьи, и сердился. Взял лопату, копнул раза два – устал, задохнулся. Сказал с досадой:
– На земле живешь, а земного дела не знаешь! Ну-ну, рой…
Слышал, как пахнет отдохнувшей землей, видел, как черна и сильна земля на его усадьбе: все подымет. И захотелось ему насажать подсолнухов. Представил себе, как начнут они подыматься, жирные, сильные, и будут желтеть тяжелыми шапками, в тарелку. Выбрал из московских дюжину самых крупных зерен, испытал на воду; сам, покряхтывая, нагнулся и насажал рядком. И когда сажал, вдруг пришло в голову – загадал: вырастет их двенадцать штук – шесть лет проживет; вырастет шесть штук – три года проживет. Поостерегся загадать: вырастет двенадцать штук – двенадцать лет проживет. И стало для него важно, скоро ли и сколько подымется их. И все беспокоился, как бы не запотели от холоду. На ночь приказывал накрывать соломкой и каждый день приходил на грядку и смотрел.
И вот, на восьмой день – по календарю высчитал, – стало выпирать сырые комочки и отсохшие колпачки шелухи, стали подыматься сочные и хрупкие, как из зеленого воску, дольки. Считал радостно, что два года еще проживет; потом вышло, что три года еще проживет. И день ото дня становилось их больше, и скоро все вылезли, вытянули и завернули к земле начинающие худеть и желтеть дольки, и пошел настоящий рост. Был так рад, что выросли все, что хороший, легкий у него в комнатах воздух, не заходит сердце, не прибывает вода в ногах и даже как будто опадать стало у живота. Присмотрелся в зеркало и нашел, что желтого в лице стало меньше, глаза светлые, борода белым веером, подумал: «А потому, что много сижу на солнце», – и сказал Арине, чтобы и по будням зажигала все лампадки. Скучно было одному радоваться, послал за Семеном Морозовым, повел его на свою грядку, а сам держал за руку, чтобы не наступил, и показывал осторожно палкой:
– Вот видишь… сам понасажал! Все взошли!
А не сказал, что загадано, – стыдно было. Похлопал Семена по плечу и повел попить чайку «по-соседски» – с медом и кувшинным изюмом.
И рада была Арина, что нет гордости в братце, что совсем помягчел Данила Степаныч, свой совсем стал, и не скучно ему будет теперь. Давно забыла она, что было у ней с Семеном Морозовым в далеком прошлом; забыла и простила, что променял ее Семен на девчонку из Черных Прудов. Век свой прожила с ней бок о бок, всю жизнь не любила, а перед смертью, лет двадцать назад, простилась и сама принесла смертную рубаху, взяла из непригодившегося приданого.
И рада была сноха Семена, уже побежавшая оповестить по дворам, что старик-от чай пить пошел к Лаврухину.
И с того дня частенько стал призывать к себе Данила Степаныч Сеньку Мороза – стал вспоминать в нем прежнего Сеньку – и на прощанье давал то двугривенный, то осьмушку духовитого чаю: так, бывало, ребятами делились они горохом.
Вспоминалось и прошлое, и почему-то резче всего припомнилось, как играли они в камушки на горох и обидел раз Сенька, а он, Данилка, залез на ветлу и ревел:
– Се-енька Мороз… горо-о-шину ужилил… Напомнила им об этом Арина. Так ясно напомнила, что вспомнил Данила Степаныч, как тогда покойник отец отбивал косу и разбил себе палец, а Аришка стояла на бревнах. Так ярко было – чудо чудесное, – вот протереть глаза, и увидишь все. Здесь где-то, близко оно, давнее, и нет его… И многое другое помнили. Помнил Семен, как бил он в Медвежьем враге Данилку. Бились они в Медвежьем враге с Данилкой из-за рыжей девки из Шалова, и одолел тогда Сенька Мороз, тряс за душу Данилку и кричал в посиневшее лицо: «Живот али смерть?» Помнил и Данила Степаныч… Все хорошо вспомнили бы, но об этом не было помину. Так хорошо, что остался на памяти, неведомыми путями, треск замятого в драке куста и высокие белые шапки болиголова, буйно разросшегося в Медвежьем враге, – вот посмотреть отсюда, прямо за речкой, где лавы и где вьется еще и теперь тропка на Шалово.
И вот стали яснеть и жить, казалось, совсем небывшие, затерявшиеся черты былого, вставали, освеженные местом. И чуть ли еще и не теперь жила с ними вон та, как и тогда, развесистая ветла, на которой ревел о горошине Данилка.
И кто знает, если бы пришел какой чародей и сказал им: «Хотите, вот оберну вас в Сеньку и Данилку, и деритесь опять за горошину, и пусть опять все пойдет старым путем», – не сказали ли бы они ему: «Хорошо!»
И забыл бы тогда Данила Степаныч все черное и тяжелое в своей жизни: как собирал первую тысячу, тревоги и бессонные ночи, как хоронил, как болел; забыл бы свои дома и бани. И Семен Морозов тоже забыл бы все: годы на водокачках и у банных котлов, как в смертном страхе тонул в реке, как замерзал в поле в метель, как помирали дети и как отмяло ему колесом три пальца, – все, что ломало и било его за долгую жизнь.
Не было чародея, а то бы…
IV
В погожие дни брел Данила Степаныч на речку. Работник Степан нес за ним раскладной стульчик. Присаживались и молчали. Данила Степаныч переводил занявшийся дух, а Степан покуривал из кулака на травке. Стрекотали по плетням и сараям сороки, шуршали по коноплям воробьиные выводки. Дремалось на солнышке под сонную воркотню ключиков. Данила Степаныч разминал в меховом сапожке затекающие пальцы и думал, выдадут ли Николе из кредитного под новую стройку до Петрова дня, чтобы вовремя обернуться и не затянуться с гавриковским подрядом, а Степан смотрел на его драповое пальто и сапоги и раздумывал, не откажет ли ему старик чего из одежи, если помрет: все-таки он старается, растирает ему по вечерам ноги мазью, и всегда уж так водится, что за хороший уход дают чего-нибудь из одежи после смерти. А одежа бы ему пригодилась, потому что без хорошей одежи нельзя получить хорошего места в городе.
– Ну, подыми… – говорил Данила Степаныч.
Поддерживаемый под руку, шел он на речку, где лавы, узнавал место, видел, что лавы все те же – три бревнышка с поручнями – и все та же, прежняя, вьется в кустиках по откосу тропка на Шалово, идет мелким березняком-веничком, играют на быри те же голавлики и покачиваются давние, сизо-зеленые стрелки тростника. Бывало, вытягивали их осторожно, как цветочки из ландышника, с тонким писком и скручивали из них лодочки. И шумят-журчат звонкие ключики, как молодые – всегда молодые. А с горы напротив, из Медвежьего врага, потягивает утренней травяной прохладой, и растут там, не могут не расти, белые шапки болиголова, кусточки-дички красной смородины и цапкие плети лесной малины.
Протягивал палку к оврагу и говорил работнику, нанятому в Москве и ничего не знающему про эти места:
– А это… Медвежий враг. Понимаешь?
– Так точно-с, Данила Степаныч… Медвежий-с…
– А почему – Медвежий? Вот и не знаешь.
– Не могу знать-с. Надо полагать, медведи жили?…
– Вот и не знаешь. Тут… давно это было… я мальчишкой еще был… даже и до меня… понимаешь, медведь… зашел раз и увяз… понимаешь? Глина там, ключи… Живьем его тут и взяли… Понимаешь?
– Понимаю-с, с этого самого, значит… от медведя! Говорил вдумчиво, точно все это было и для него важно, и хмуро, как и Данила Степаныч, всматривался в глухую чащу высокого оврага в горе, где мелькало синее пятнышко рубашки: должно быть, там собирали ландыши.
– Вот и прозвали: Медвежий!
Говорил Данила Степаныч, чего не видал сам, чего, может быть, не видали и те, кто сказал ему. Может быть, сказку. Носил ее в себе всю жизнь и удержал в памяти среди вороха всяких дел и кипений. И вот теперь вспомнил и рассказал.
– Теперь медведи за редкость… – сказал Степан. – В зоологическом вот показывают… ситнички продают для прокормления…
И подбирал, о чем бы еще поговорить, чтобы было не скучно Даниле Степанычу. Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу – и не находил, что бы такое сказать еще. Родился и вырос в Москве и не знал ничего из здешнего. А на Данилу Степаныча напирало совсюду, куда ни глядел, переполняло всего, и нельзя было удержать при себе.