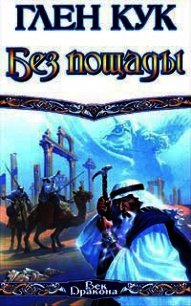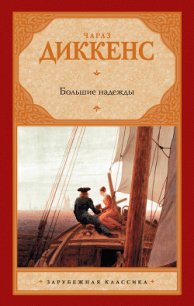Битва жизни - Диккенс Чарльз (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
Ей было лет тридцать, и лицо у нее было довольно полное и веселое, но какое-то до смешного неподвижное. Но что говорить о лице – походка и движения ее были так неуклюжи, что, глядя на них, можно было забыть про любое лицо на свете. Сказать, что обе ноги у нее казались левыми, а руки словно взятыми у кого-то другого и что все эти четыре конечности были вывихнуты и, когда приходили в движение, совались не туда, куда надо, – значит дать лишь самое смягченное описание действительности. Сказать, что она была вполне довольна и удовлетворена таким устройством, считая, что ей нет до него дела, и ничуть не роптала на свои руки и ноги, но позволяла им двигаться как попало, – значит лишь в малой степени воздать должное ее душевному равновесию. А одета она была так: громадные своевольные башмаки, которые упрямо отказывались идти туда, куда шли ее ноги, синие чулки, пестрое платье из набойки самого безобразного рисунка, какой только встречается на свете, и белый передник. Она всегда носила платья с короткими рукавами и всегда почему-то ходила с исцарапанными локтями, которыми интересовалась столь живо, что постоянно выворачивала их, тщетно пытаясь рассмотреть, что же с ними происходит. На голове у нее обычно торчал маленький чепчик, прилепившись, где угодно, только не на том месте, которое у других женщин обычно покрыто этой принадлежностью туалета; зато – она с ног до головы была безукоризненно опрятна и всегда имела какой-то развинченно-чистоплотный вид. Больше того: похвальное стремление быть аккуратной и подобранной, как ради спокойствия собственной совести, так и затем, чтобы люди не осудили, порой заставляло ее проделывать самые изумительные телодвижения, а именно – хвататься что-то вроде длинной деревянной ручки (составлявшей часть ее костюма и в просторечии именуемой корсетной планшеткой) и сражаться со своими одеждами, пока не давалось привести их в порядок.
Так выглядела и одевалась Клеменси Ньюком, которая, должно быть, нечаянно исказила свое настоящее имя Клементина, превратив его в Клеменси (хотя никто этого знал наверное, ибо ее глухая дряхлая мать, которую та содержала чуть не с детских лет, умерла, дожив до необычайно глубокой старости, а других родственников нее не было), и которая хлопотала сейчас, накрывая да стол, но по временам бросала работу и стояла как вкопанная, скрестив голые красные руки и потирая исцапанные локти – правый пальцами левой руки и наоборот, – и сосредоточенно смотрела на этот стол, пока вдруг не вспоминала о том, что ей не хватает какой-то вещи, и не кидалась за нею.
Вон сутяги идут, мистер! – сказала вдруг Клеменси не слишком доброжелательным тоном.
– А! – воскликнул доктор и пошел к калитке навстречу гостям. – Здравствуйте, здравствуйте! Грейс, долгая! Мэрьон! К нам пришли господа Сничи и Крегс, где же Элфред?
– Он, наверное, сейчас вернется, отец, – ответила Грейс. – Ему ведь надо готовиться к отъезду, и нынче утром у него было столько дела, что он встал и ушел на свете. Доброе утро, джентльмены.
– С добрым утром, леди! – произнес мистер Сничи, – говорю за себя и за Крегса. (Крегс поклонился.) Мисс, – тут Сничи повернулся к Мэрьон, – целую вашу руку. – Сничи поцеловал руку Мэрьон. – И желаю (желал он или не желал, неизвестно, ибо на первый взгляд он не казался человеком, способным на теплое чувство к другим людям), желаю вам еще сто раз счастливо встретить этот знаменательный день.
– Ха-ха-ха! Жизнь – это фарс! – задумчиво рассмеялся доктор, засунув руки в карманы. – Длинный фарс в сотню актов!
– Я уверен, однако, – проговорил мистер Спичи, прислонив небольшой синий мешок с юридическими документами к ножке стола, – что вы, доктор Джедлер, никоим образом не захотели бы сократить в этом длинном фарсе роль вот этой актрисы.
– Конечно нет! – согласился доктор. – Боже сохрани! Пусть живет и смеется над ним, пока может смеяться, а потом скажет вместе с одним остроумным французом: «Фарс доигран; опустите занавес».
– Остроумный француз, – сказал мистер Сничи, быстро заглядывая в свой синий мешок. – ошибался, доктор Джедлер, и ваша философия, право же, ошибочна от начала до конца, как я уже не раз объяснял вам. Говорить, что в жизни нет ничего серьезного! А что же такое суд, как, по-вашему?
– Шутовство! – ответил доктор.
– Вы когда-нибудь обращались в суд? – спросил мистер Сничи, отрывая глаза от синего мешка.
– Никогда, – ответил доктор.
– Ну, если это случится, – продолжал мистер Сничи, – вы, быть может, измените свое мнение.
Крегс, от имени которого всегда выступал Сничи и который сам, казалось, не ощущал себя как отдельную личность и не имел индивидуального существования, на этот раз высказался тоже. Мысль, выраженная в этом суждении, была единственной мыслью, которой он не разделял на равных началах со Сничи; зато ее разделяли кое-какие его единомышленники из числа умнейших людей на свете.
– Суд теперь слишком упростили, – изрек мистер Крегс.
– Как? Суд упростили? – усомнился доктор.
– Да, – ответил мистер Крегс, – все упрощается. Все теперь, по-моему, сделали слишком уж простым. Это порок нашего времени. Если жизнь – шутка (а я не собираюсь это отрицать), надо, чтобы эту шутку были очень трудно разыгрывать. Жизнь должна быть жестокой борьбой, сэр. Вот в чем суть. Но ее чрезмерно упрощают. Мы смазываем маслом ворота жизни. А надо, чтобы они были ржавые. Скоро они будут отворяться без скрипа. А надо, чтобы они скрежетали на своих петлях, сэр.
Изрекая все это, мистер Крегс как будто сам скрежетал на своих петлях, и это впечатление еще усиливалось его внешностью, ибо он был холодный, жесткий, сухой человек, настоящий кремень, – да и одет он был в серое с белым, а глаза у него чуть поблескивали, словно из них высекали искры. Все три царства природы – минеральное, животное и растительное, – казалось, нашли в этом братстве спорщиков своих представителей: ибо Сничи походил на сороку или ворона (только он был не такой прилизанный, как они), а у доктора лицо было сморщенное, как мороженое яблоко, с ямочками, точно выклеванными птицами, а на затылке у него торчала косичка, напоминавшая черенок.
Но вот энергичный красивый молодой человек в дорожном костюме, сопровождаемый носильщиком, тащившим несколько свертков и корзинок, веселый и бодрый – под стать этому ясному утру, – быстрыми шагами вошел в сад, и все трое собеседников, словно братья трех сестер Парок, или до неузнаваемости замаскированные Грации, или три вещих пророчицы на вересковой пустоши [1], вместе подошли к нему и поздоровались с ним.
– Поздравляю с днем рождения, Элф! – весело проговорил доктор.
– Поздравляю и желаю еще сто раз счастливо встретить этот знаменательный день, мистер Хитфилд, – сказал Сничи с низким поклоном.
– Поздравляю! – глухо буркнул Крегс.
– Кажется, я попал под обстрел целой батареи! – воскликнул Элфред останавливаясь. – И… один, два, три… все трое не предвещают мне ничего хорошего в том великом море, что расстилается передо мною. Хорошо, что я не вас первых встретил сегодня утром, а то подумал бы, что это не к добру. Нет, первой была Грейс, милая ласковая Грейс, поэтому я не боюсь всех вас!..
– Позвольте, мистер, первой была я, – вмешалась Клеменси Ньюком. – Она гуляла здесь в саду, когда еще солнце не взошло, помните? А я была в доме.
– Это верно, Клеменси была первой, – согласился Элфред. – Значит, Клеменси защитит меня от вас.
– Ха-ха-ха! – говорю за себя и за Крегса, – сказал Сничи. – Вот так защита!
– Быть может, не такая плохая, как кажется, – проговорил Элфред, сердечно пожимая руку доктору, Сничи и Крегсу и оглядываясь кругом. – А где же… Господи боже мой!
Он рванулся вперед, отчего Джонатан Сничи и Томас Крегс на миг сблизились теснее, чем это было предусмотрено в их деловом договоре, подбежал к сестрам, и… Впрочем, мне незачем подробно рассказывать о том, как он поздоровался, сперва с Мэрьон, потом с Грейс; намекну лишь, что мистер Крегс, возможно, нашел бы его манеру здороваться «слишком упрощенной».
1
…три вещих пророчицы на вересковой пустоши… – три ведьмы из трагедии Шекспира «Макбет», напророчившие герою власть и славу.