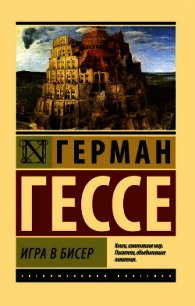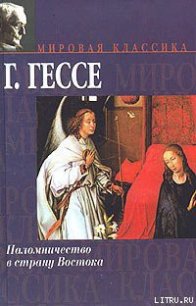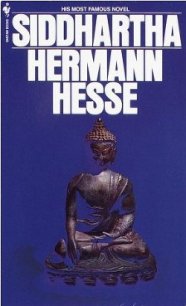Игра в бисер - Гессе Герман (читаем книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Признаёмся, мы не в состоянии дать однозначное определение изделий, по которым мы называем эту эпоху, то есть «фельетонов». Похоже, что они, как особо любимая часть материалов периодической печати, производились миллионами штук, составляли главную пищу любознательных читателей, сообщали или, вернее, «болтали» о тысячах разных предметов, и похоже, что наиболее умные фельетонисты часто потешались над собственным трудом, во всяком случае, Цигенхальс признается, что ему попадалось множество таких работ, которые он, поскольку иначе они были бы совершенно непонятны, склонен толковать как самовысмеивание их авторов. Вполне возможно, что в этих произведенных промышленным способом статьях таится масса иронии и самоиронии, для понимания которой надо сперва найти ключ. Поставщики этой чепухи частью принадлежали к редакциям газет, частью были «свободными» литераторами, порой даже слыли писателями-художниками, но очень многие из них принадлежали, кажется, и к ученому сословию, были даже известными преподавателями высшей школы. Излюбленным содержанием таких сочинений были анекдоты из жизни знаменитых мужчин и женщин и их переписка, озаглавлены они бывали, например, «Фридрих Ницше и дамская мода шестидесятых-семидесятых годов XIX века», или «Любимые блюда композитора Россини», или «Роль болонки в жизни великих куртизанок» и тому подобным образом. Популярны были также исторические экскурсы на темы, злободневные для разговоров людей состоятельных, например: «Мечта об искусственном золоте в ходе веков» или «Попытки химико-физического воздействия на метеорологические условия» и сотни подобных вещей. Читая приводимые Цигенхальсом заголовки такого чтива, мы поражаемся не столько тому, что находились люди, ежедневно его проглатывавшие, сколько тому, что авторы с именем, положением и хорошим образованием помогали «обслуживать» этот гигантский спрос на ничтожную занимательность, – «обслуживать», пользуясь характерным словцом той поры, обозначавшим, кстати сказать, и тогдашнее отношение человека к машине. Временами особенно популярны бывали опросы известных людей по актуальным проблемам, опросы, которым Цигенхальс посвящает отдельную главу и при которых, например, маститых химиков или виртуозов фортепианной игры заставляли высказываться о политике, любимых актеров, танцовщиков, гимнастов, летчиков или даже поэтов – о преимуществах и недостатках холостой жизни, о предполагаемых причинах финансовых кризисов и так далее. Важно было только связать известное имя с актуальной в данный миг темой; примеры, порой поразительнейшие, есть у Цигенхальса, он приводит их сотни. Наверно, повторяем, во всей этой деятельности присутствовала добрая доля иронии, возможно, то была даже демоническая ирония, ирония отчаяния, нам очень трудно судить об этом; но широкие массы, видимо очень любившие чтение, принимали все эти странные вещи, несомненно, с доверчивой серьезностью. Меняла ли знаменитая картина владельца, продавалась ли с молотка ценная рукопись, сгорал ли старинный замок, оказывался ли отпрыск древнего рода замешанным в каком-нибудь скандале – из тысяч фельетонов читатели не только узнавали об этих фактах, но в тот же или на следующий день получали и уйму анекдотического, исторического, психологического, эротического и всякого прочего материала по данному поводу; над любым происшествием разливалось море писанины, и доставка, сортировка и изложение всех этих сведений непременно носили печать наспех и безответственно изготовленного товара широкого потребления. Впрочем, к фельетону относились, нам кажется, и кое-какие игры, к которым привлекалась сама читающая публика и благодаря которым ее пресыщенность научной материей активизировалась, об этом говорится в длинном примечании Цигенхальса по поводу удивительной темы «Кроссворд». Тысячи людей, в большинстве своем выполнявших тяжелую работу и живших тяжелой жизнью, склонялись в свободные часы над квадратами и крестами из букв, заполняя пробелы по определенным правилам. Поостережемся видеть только комичную или сумасшедшую сторону этого занятия и воздержимся от насмешек над ним. Те люди с их детскими головоломками и образовательными статьями вовсе не были ни простодушными младенцами, ни легкомысленными феаками, нет, они жили в постоянном страхе среди политических, экономических и моральных волнений и потрясений, вели ужасные войны, в том числе гражданские, и образовательные их игры были не просто бессмысленным ребячеством, а отвечали глубокой потребности закрыть глаза и убежать от нерешенных проблем и страшных предчувствий гибели в как можно более безобидный фиктивный мир. Они терпеливо учились водить автомобиль, играть в трудные карточные игры и мечтательно погружались в решение кроссвордов – ибо были почти беззащитны перед смертью, перед страхом, перед болью, перед голодом, не получая уже ни утешения у церкви, ни наставительной помощи духа. Читая столько статей и слушая столько докладов, они не давали себе ни времени, ни труда закалиться от малодушия и побороть в себе страх смерти, они жили дрожа и не верили в завтрашний день.
В ходу были и доклады, и об этой чуть более благородной разновидности фельетона мы тоже должны вкратце сказать. Помимо статей, и специалисты, и бандиты духовного поприща предлагали обывателям того времени, еще очень цеплявшимся за лишенное своего прежнего смысла понятие «образование», также множество докладов, причем не просто в виде торжественных речей, по особым поводам, а в порядке бешеной конкуренции и в неимоверном количестве. Житель города средних размеров или его жена могли приблизительно раз в неделю, а в больших городах можно было чуть ли не каждый вечер слушать доклады, теоретически освещавшие какую-нибудь тему – о произведениях искусства, писателях, ученых, исследователях, путешествиях по свету, – доклады, во время которых слушатель играл чисто пассивную роль и которые предполагали какое-то отношение слушателя к их содержанию, какую-то подготовку, какие-то элементарные знания, какую-то восприимчивость, хотя в большинстве случаев их не было и в помине. Читались занимательные, темпераментные и остроумные доклады, например о Гёте, где он выходил в синем фраке из почтовых карет и соблазнял страсбургских или вецларских девушек, или доклады об арабской культуре, в которых какое-то количество модных интеллектуальных словечек перетряхивалось, как игральные кости в стакане, и каждый радовался, если одно из них с грехом пополам узнавал. Люди слушали доклады о писателях, чьих произведений они никогда не читали и не собирались читать, смотрели картинки, попутно показываемые с помощью проекционного фонаря, и так же, как при чтении газетного фельетона, пробирались через море отдельных сведений, лишенных смысла в своей отрывочности и разрозненности. Короче говоря, уже приближалась ужасная девальвация слова, которая сперва только тайно и в самых узких кругах вызывала то героически-аскетическое противодействие, что вскоре сделалось мощным и явным и стало началом новой самодисциплины и достоинства духа.
Неуверенность и неподлинность духовной жизни того времени, во многом другом отмеченного энергией и величием, мы, нынешние, объясняем как свидетельство ужаса, охватившего дух, когда он в конце эпохи вроде бы побед и процветания вдруг оказался лицом к лицу с пустотой: с большой материальной нуждой, с периодом политических и военных гроз, с внезапным недоверием к себе самому, к собственной силе и собственному достоинству, более того – к собственному существованию. Между тем на этот период ощущения гибели пришлось еще много очень высоких достижений духа, в числе прочего начало того музыковедения, благодарными наследниками которого являемся мы. Но любой отрезок прошлого поместить в мировую историю изящно и с толком нетрудно, а никакое настоящее время определить свое место в ней не способно, и потому тогда, при быстром падении духовных запросов и достижений до очень скромного уровня, как раз среди людей высокодуховных распространились ужасная неуверенность и отчаяние. Только что открыли (со времен Ницше об этом уже повсюду догадывались), что молодость и творческая пора нашей культуры прошли, что наступили ее старость и сумерки; и этим обстоятельством, которое вдруг все почувствовали, а многие резко сформулировали, люди стали объяснять множество устрашающих знамений времени: унылую механизацию жизни, глубокий упадок нравственности, безверие народов, фальшь искусства. Зазвучала, как в одной чудесной китайской сказке, «музыка гибели», как долгогремящий органный бас, раздавалась она десятки лет, разложением входила в школы, журналы, академии, тоской и душевной болезнью – в большинство художников и обличителей современности, которых еще следовало принимать всерьез, бушевала диким и дилетантским перепроизводством во всех искусствах. Были разные способы поведения перед лицом этого вторгшегося и уже не устранимого никаким волшебством врага. Можно было молча признать горькую правду и стоически сносить ее, это делали многие из лучших. Можно было пытаться отрицать ее ложью, и литературные глашатаи доктрины о гибели культуры выставляли для этого немало уязвимых мест; кроме того, всякий, кто вступал в борьбу с этими грозящими пророками, находил отклик и пользовался влиянием у мещанина, ибо утверждение, что культура, которой ты, казалось, еще вчера обладал и которой так гордился, уже мертва, что образование, любимое мещанином, что любимое им искусство уже не настоящее образование и не настоящее искусство, – это утверждение казалось ему не менее наглым и нестерпимым, чем внезапные инфляции и угрожавшие его капиталам революции. Кроме того, был еще циничный способ сопротивляться этому великому ощущению гибели: люди ходили танцевать и объявляли любые заботы о будущем допотопной глупостью, они с чувством пели в своих фельетонах о близком конце искусства, науки, языка и, с каким-то самоубийственным сладострастием констатируя в фельетонном мире, который сами же построили из бумаги, полную деморализацию духа, инфляцию понятий, делали вид, будто с циничным спокойствием или вакхическим восторгом смотрят на то, как погибают не только искусство, дух, нравственность, честность, но даже Европа и «мир» вообще. Среди людей добрых царил молчаливый и мрачный, среди дурных – язвительный пессимизм, и должна была сперва произойти ликвидация отжившего, какая-то перестройка мира и морали политикой и войной, прежде чем и культура стала способна действительно посмотреть на себя со стороны и занять новое место.