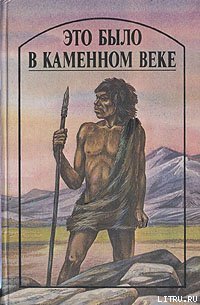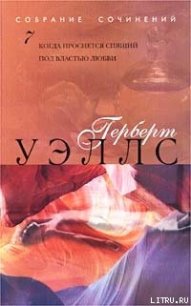Тоно Бенге - Уэллс Герберт Джордж (книги бесплатно txt) 📗
Когда Марион вынула из буфета белую скатерть, чтобы накрыть стол к чаю, на пол упала карточка с надписью: «Сдаются комнаты». Я поднял ее и передал Марион. Она мгновенно покраснела, и тут только я сообразил, что совершил оплошность: вероятно, карточку сняли с окна по случаю моего прихода.
Во время разговора ее отец вскользь упомянул, что очень занят делами. Только значительно позже я узнал, что он служил внештатным конторщиком на газовом заводе Уолэм-Грин, а в свободное время выполнял всякую домашнюю работу. Это был крупный, неряшливо одетый, склонный к полноте мужчина, с неумными карими глазами, которые благодаря очкам казались большими. На нем был сюртук, сидевший мешком, и бумажный воротничок. С гордостью, как величайшее сокровище, он мне показал толстую библию с многочисленными фотографиями и картинками, вложенными между страницами. За домом у него был маленький огород и небольшой парник, где выращивались помидоры.
— Как бы мне хотелось наладить там отопление, — говорил он. — С отоплением чего только не сделаешь! Но в этом мире нельзя иметь все, что захочется.
Отец с матерью относились к Марион с уважением, которое я находил вполне естественным. Поведение Марион сразу резко изменилось, обычная робость исчезла, в манерах появилась какая-то суровость и властность. Я думаю, она командовала родителями и все делала по-своему. Это, по-видимому, она задрапировала зеркала и раздобыла подержанное пианино. В молодости ее мать — теперь худая и изможденная женщина — вероятно, была красивой: у нее были правильные черты лица и такие же, как у Марион, волосы, хотя и утратившие былой блеск. Тетка — мисс Рембот — очень крупная особа, отличалась прямо-таки неестественной застенчивостью и очень походила в этом отношении на брата. Я не припомню, вымолвила ли она во время моего визита хотя бы одно слово.
Вначале все мы чувствовали себя довольно стесненно. Марион заметно нервничала, а остальные вели себя так, словно их заставили играть какую-то незнакомую, малопонятную роль. Но все оживились, когда я принялся болтать о разных пустяках, рассказывать о школе, о своей жизни в Лондоне, об Уимблхерсте и о днях своего ученичества.
— Слишком много народа нынче занимается науками, — глубокомысленно заметил мистер Рембот. — Я иногда задаю себе вопрос: что в этом хорошего?
По своей молодости я дал втянуть себя в «маленький диспут», как он выразился, но Марион вовремя прервала его.
— Простите, что я вмешиваюсь, — сказала она, — но, на мой взгляд, вы оба по-своему правы.
Затем мать Марион поинтересовалась, какую церковь я посещаю. На этот вопрос я ответил уклончиво. После чая мы слушали музыку, а потом кто-то предложил петь гимны. Я сначала отказывался, ссылаясь на то, что у меня нет голоса, но мои возражения не были приняты во внимание, и пришлось петь. В конце концов я был вознагражден: сидел рядом с Марион и чувствовал прикосновение ее волос. Ее мать, усевшись в кресло, набитое конским волосом, бросала на нас умиленные взгляды.
Мы с Марион совершили прогулку к Путнийскому мосту, а затем все снова пели, потом ужинали — была подана холодная ветчина и пирог, — после чего мы с мистером Ремботом закурили трубки. Во время прогулки Марион рассказывала мне, с какой целью она делала наброски и копии в музее. Родственница одной из ее подруг — какая-то Смити — имела небольшое предприятие: ее мастерская изготовляла так называемое «персидское одеяние» — одноцветные накидки с яркой вышивкой. Марион работала в мастерской, когда поступало много заказов. Если же мастерская не была загружена, она придумывала новые рисунки для вышивки. С этой целью она и посещала музей, выискивая подходящие узоры и делая наброски в записной книжке; дома она переводила скопированные орнаменты на материал.
— Я зарабатываю немного, — сказала Марион, — но это интересное занятие. Иногда мы работаем целые дни напролет. Конечно, работницы у нас страшно заурядны, но мы с ними почти не разговариваем. К тому же Смити способна говорить за десятерых.
Действительно, если судить по Марион, работницы в мастерской были личностями весьма заурядными.
Семейная обстановка в доме на Уолэм-Грин, его обитатели и то обстоятельство, что я увидел Марион в новом свете, не поколебали моей решимости жениться на ней. Родители не понравились мне. Но я принял их как неизбежность. Более того, Марион явно выигрывала в моих глазах при сравнении с ними; она властвовала над ними, она во всем была выше их и не скрывала этого.
Моя страсть росла с каждым днем. Я только и думал о том, как бы сделать приятное Марион, доказать ей свою преданность, каким роскошным подарком порадовать, как бы дать понять, насколько она мне желанна. И если иногда она обнаруживала свою ограниченность, если ее невежество теперь уже не вызывало у меня никаких сомнений, я говорил себе, что ее душевные качества для меня дороже самого утонченного ума и блестящего образования. И я сейчас еще думаю, что, по существу говоря, не ошибался. В ней было что-то прекрасное, что-то простое и вместе с тем возвышенное, порой проступавшее сквозь невежество, банальность и ограниченность, как мелькает язычок в пасти змеи…
Однажды вечером я удостоился чести проводить ее после концерта в институт Биркбека. Мы возвращались подземкой в вагоне первого класса — лучшего вагона в поезде не имелось. Мы были одни, и я впервые рискнул обнять ее.
— Зачем это? — как-то неуверенно сказала она.
— Я люблю вас, — прошептал я, чувствуя, как бешено колотится мое сердце, привлек ее к себе и поцеловал в холодные, безжизненные губы.
— Любите меня? — спросила она, вырываясь из моих объятий. — Не надо! — Затем, когда поезд остановился на станции, она добавила: — Вы не должны никому говорить… Не знаю… Вам не следовало этого делать…
В вагон вошли еще два пассажира, и я вынужден был на время утихомириться. Когда мы остались снова наедине и проходили около Баттерси, Марион напустила на себя обиженный вид. Я расстался с ней, не добившись прошения и страшно расстроенный.
Когда мы с ней опять встретились, она потребовала, чтобы я никогда не повторял «подобных вещей».
Я думал, что поцелуй принесет мне величайшую радость. Но оказалось, что это лишь первый робкий шаг на пути любви. Я оказал ей, что хочу на ней жениться — это единственная цель моей жизни.
— Но вы же не в состоянии… — возразила она. — Какой смысл вести такие разговоры?
Я удивленно уставился на нее.
— Поверьте, я говорю серьезно.
— Вы не можете жениться. Это вопрос нескольких лет…
— Но я люблю вас, — настаивал я.
Ее милые губы, которые я уже целовал, были совсем близко от меня; стоило только протянуть руку, чтобы прикоснуться к холодной красоте, которую я хотел оживить, но я видел, что между нами разверзалась пропасть — годы труда, ожидания, разочарования, неопределенности.
— Я люблю вас, — повторил я. — А вы разве не любите меня?
Она посмотрела на меня суровыми, неумолимыми глазами.
— Не знаю, — ответила она. — Конечно, вы мне нравитесь… Но надо быть благоразумными…
Я помню еще и сейчас, как меня расстроил ее жесткий ответ. Мне следовало уже тогда понять, что она не разделяет моей страсти. Но разве я мог в то время это осознать? Я до безумия желал ее и наделял необыкновенными достоинствами. Мной владело нелепое и стихийное стремление обладать ею…
— Но… а любовь… — сказал я.
— Но надо быть благоразумными, — повторила она. — Мне нравится бывать с вами. Пусть все останется по-прежнему.
Теперь вы поймете, почему я испытывал такой упадок духа. Причин было более чем достаточно. Я работал все хуже и хуже, от былого моего рвения и аккуратности не осталось и следа, я все больше отставал от своих коллег-студентов. Чуть ли не весь запас моей душевной энергии я отдавал служению Марион, и мало что оставалось на долю науки.
Я невероятно опустился и всячески избегал встречаться со своими товарищами-студентами. Не удивительно, что в конце концов эти хмурые, бледные, тупые, но усидчивые и трудолюбивые северяне перестали видеть во мне соперника и стали презирать меня. Даже девица по одному предмету получила лучшие отметки, чем я. После этого для меня стало вопросом чести публично игнорировать все школьные порядки, хотя и раньше я никогда не соблюдал их…