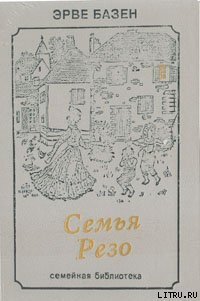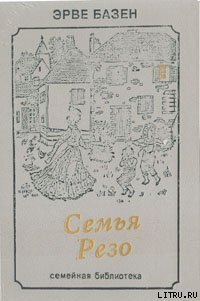Змея в кулаке - Базен Эрве (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Не имею об этом ни малейшего представления. Однако отвечаю:
— Будет еще веселее, вот посмотришь.
На следующее утро, до мессы, Психимора, аббат, отец, Фина, оба мои брата (их позвали для острастки) собрались у моей двери, замочная скважина которой по-прежнему была заткнута карандашом.
Фреди, от которого я узнал эти подробности, заверил меня, что, кроме аббата, у всех был встревоженный вид. Психимора куталась в свой неизменный халат из серой фланели с блеклыми настурциями, и ее била нервная дрожь. У отца глаза опухли и покраснели от бессонной ночи.
— Ну как? Одумался? — закричала Психимора и, не дожидаясь ответа (который, вполне естественно, не последовал), приказала Кропетту: — Ступай за Барбеливьеном да скажи ему, чтобы захватил с собой железный лом.
За ночь она переменила решение. Морить меня голодом она сочла опасным: от мальчишки с такой упрямой башкой можно ждать самого ожесточенного сопротивления. Какой пример для братьев! И какая же это победа, если в конце концов герой свалится в постель от голода и его придется еще лечить! Нужно было схватить меня в моем логове немедленно. Наплевать на скандал! Отца она заставила согласиться с ее доводами.
Пришел Барбеливьен, распространяя вокруг запах коровника; он оставил свои деревянные башмаки на кухне и, вооружившись ломом, поднялся в одних носках на второй этаж. По обыкновению он шмыгал мокрым носом. Уже зная от Кропетта о случившемся, он только пробурчал: «Здравствуйте вам» — и тотчас принялся за работу. Справился он быстро. Поднажал хорошенько, и дверь распахнулась.
— Да что же это такое! — в последний раз взвизгнула потрясенная Психимора.
Комната оказалась пустой. В ней царил образцовый порядок. Платяной шкаф стоял на своем обычном месте. Постель даже не была смята или же вновь старательно оправлена. На столе лежал сложенный вчетверо листок бумаги, вырванный из тетради. Отец сразу его заметил:
— Он оставил нам записку.
Но записка состояла всего лишь из двух букв, из двух огромных заглавных букв, начертанных синим карандашом: «М.П.».
18
В это самое время скорый парижский поезд мчался вдоль длинного султана собственного дыма к Ле-Ману через Бокаж. То есть через один из тех уголков мира, где больше всего коров, глядящих вслед пробегающим поездам. Расположившись в правом углу купе, я курил сигарету и читал (да простит мне бог!) «Ле попюлер». Я сидел в правом углу, потому что обычно это место предназначалось Психиморе, когда мы ездили поездом по узкоколейке в Анже. Сигарету я курил потому, что отец почти никогда не курил, а читал «Ле попюлер» потому, что это газета социалистов и, следовательно, враждебная лагерю Резо.
Решение о бегстве я принял в четыре часа утра. Я вдруг ясно представил себе положение вещей, понял, что Психимора, боясь показаться смешной, не решится вести в своем собственном доме осаду комнаты провинившегося сына. Но допустить, чтобы меня схватили и высекли, — ни за что на свете!.. Как раз недавно я прочел отрывок из Шатобриана, где он рассказывает о своем сражении с учителем, которому было поручено его выпороть. Generose puer! [8] Я поступлю так же, как он. И даже еще лучше! Скорее в путь!
Куда же отправиться? Ясно, черт возьми, в Париж! В Париж, к дедушке Плювиньеку! Я официально потребую, чтобы он нас рассудил. Я буду посланником нашего тайного общества. Это довольно рискованно, но иного выбора нет. Я рассчитываю на растерянность, которую вызовет мое бегство, на спасительный страх, который мой бурный протест внушит отцу, и на то, что родителям придется во избежание нового скандала вступить со мной в переговоры. Рассчитывать-то я рассчитываю, да не очень. Все эти соображения пришли ко мне уже после бегства, когда я старался оправдать свое решение. Сначала эти соображения у меня не возникали или, во всяком случае, не возникали в связном виде. Если бы нужно было все заранее обдумывать, взвешивать все последствия своих действий, прежде чем «почувствовать их необходимость», я не был бы самим собой, я не мог бы жить.
Я не захватил с собой никакого узелка с пожитками: надел свой лучший костюм (относительно приличный) и темно-синюю суконную пелерину. На дорожные расходы я взял деньги из нашей тайной кассы; как вам известно, под плиткой пола еще оставалось двести франков. Наведя порядок в комнате, я спустился из окна по лестнице, которую осаждающие забыли убрать. Заметьте, впрочем, если бы лестницу убрали, я спустился бы более живописно, воспользовавшись простынями (этот романтический способ я узнал из книги «Парижский мальчишка» — «Иллюстрированная библиотека»).
Я отмахал галопом шесть километров до Сегре, купил на станции пачку сигарет «Голуаз», вскочил в поезд, отходивший в пять тридцать семь, — все это я проделал как автомат. И вот я с удовлетворением мчусь в своем скором, сожалея лишь о том, что братья не могут видеть меня, и нетерпеливо ожидая, когда же замелькают за окном незнакомые пейзажи. За Ле-Маном, за Ножан-ле-Рортру поля уже не разрезаны на противные клеточки бесчисленными живыми изгородями, а широко раскинулись на все стороны, залиты солнцем и беспредельны, как моя сегодняшняя свобода.
В вагоне народу не густо. Напротив меня на скамейке сидят только три пассажира — немногочисленное семейство: отец — безобидное существо в старомодных брюках в полоску, мать с прической на прямой пробор, дочка, вероятно моя ровесница, всю суть которой выдают опущенные ресницы. Они обмениваются слащавыми словечками «мамочка», «милочка», чмокают друг друга в шею. Девчонка отказывается от бутербродов с ветчиной, потом от ломтика холодного ростбифа. Кривляка! Отвратительная ломака, хотя и недурна, а самодельный свитер (неровные петли выдают неопытную руку) туго обтягивает юную грудь, на которую приятно смотреть. Мне вспомнилась Бертина Барбеливьен или, вернее, Мадлен из «Ивняков», у которой грудь побольше и соблазнительно подрагивает под корсажем. Вот если бы можно было ее потрогать! Не знаю почему, но мне очень хочется это сделать, любопытно, как она устроена, упругая ли она и как прикрепляется к телу: так же, как щека к лицу или, скажем, как яблоко к ветке? Поразмыслив, я решил, что, наверное, похоже и на то и на другое. А поразмыслив еще, я пришел к выводу, что эта девчонка меня просто раздражает — так и тянет смотреть на нее, как будто в ней есть что-то необыкновенное, и это открылось мне только сегодня. Меня раздражают ее скромно опущенные ресницы, которые она, случается, поднимает, бросая взгляд быстрый, как уклейка, мелькающая в камышах. Я встаю и, выйдя в коридор, смотрю в окно на равнину Бос, развертывающуюся передо мной, как полотнище набивного ситца соломенно-желтого цвета с пестрым узором из васильков и маков. Но когда Мари-Тереза (так ее зовет мать) выходит из вагона в Шартре, я радостно пользуюсь случаем и так неловко даю ей дорогу, что она невольно касается меня всем телом — я даже почувствовал, где у нее находится под плиссированной юбочкой пряжка подвязок, подхватывающая бумажные чулки.
Вот и ушла эта девица, и я шагаю по коридору. В вагоне есть и другие женщины, по они либо слишком молоды, либо слишком стары. Ничего интересного. Ну, оставим все это. Ведь говорил же Фреди: любовь — то же самое, что любовь к господу богу, о которой нам прожужжали все уши, значит, наверняка это дурацкая выдумка! Я пропустил вид, открывавшийся на «Швейцарское озеро» в Версале. Черт с ним! Мне столько уже наговорили об этом знаменитом ландшафте, на который глазеют все пассажиры, высовываясь из окон вагонов. За упущенное зрелище меня вознаградила картина парижских пригородов. Какой же это садовод полными пригоршнями разбросал семена, из которых повырастало такое разнообразие вилл и дачек? У меня весьма прочные эстетические позиции, и в большинстве своем эти домишки, на мой взгляд, достойны только лавочников, удалившихся на покой. Меня коробит при мысли о близком соседстве с выстиранным бельем, сохнущим на веревках, и с клетками, где разводят кроликов. Почему не научили парижан прикрывать сараи и курятники живой изгородью из лавровых кустов? Я еще не знал, что широко располагаться в земельных владениях — это роскошь, доступная лишь буржуазии. И что цена на землю в Кранэ позволяет устраивать там «зеленый пояс», который не под силу людям, живущим в «красном поясе» столицы.
8
Правильно «generosus puer» — благородный юноша (лат.).