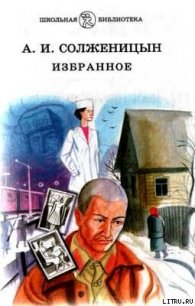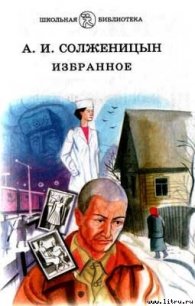Один день Ивана Денисовича - Солженицын Александр Исаевич (полные книги .txt) 📗
Да не хуже вашего, пробуйте на здоровье! Шухов бы и сам попробовал, но какими-то часами там, в нутре своем, чует, что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время такое, что надзиратели шастают по баракам. Чтобы курить, сейчас надо в коридор выходить, а Шухову наверху, у себя на кровати, как будто теплей. В бараке ничуть не тепло, и та же обметь снежная по потолку. Ночью продрогнешь, но пока сносно кажется.
Все это делал Шухов и хлеб начал помалу отламывать от двухсотграммовки, сам же слушал обневолю, как внизу под ним, чай пья, разговорились кавторанг с Цезарем.
— Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь! Берите вот рыбца копченого. Колбасу берите.
— Спасибо, беру.
— Батон маслом мажьте! Настоящий московский батон!
— Ай-ай-ай, просто не верится, что где-то еще пекут батоны. Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне один случай. Попадаю я раз в Архангельск…
Гам стоял в половине барака от двухсот глоток, все же Шухов различил, будто об рельс звонили. Но не слышал никто. И еще приметил Шухов: вошел в барак надзиратель Курносенький — совсем маленький паренек с румяным лицом. Держал он в руках бумажку, и по этому, и по повадке видно было, что он пришел не курильщиков ловить и не на проверку выгонять, а кого-то искал.
Курносенький сверился с бумажкой и спросил:
— Сто четвертая где?
— Здесь, — ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали и дым разогнали.
— А бригадир где?
— Ну? — Тюрин с койки, ноги на пол едва приспустя.
— Объяснительные записки, кому сказано, написали?
— Пишут! — уверенно ответил Тюрин.
— Сдать надо было уже.
— У меня — малограмотные, дело нелегкое. (Это про Цезаря он и про кавторанга. Ну, и молодец бригадир, никогда за словом не запнется). Ручек нет, чернила нет.
— Надо иметь.
— Отбирают!
— Ну, смотри, бригадир, много будешь говорить — и тебя посажу! — незло пообещал Курносенький. — Чтоб утром завтра до развода объяснительные были в надзирательской! И указать, что недозволенные вещи все сданы в каптерку личных вещей. Понятно?
— Понятно.
(«Пронесло кавторанга!» — Шухов подумал. А сам кавторанг и не слышит ничего, над колбасой там заливается.)
— Теперь та-ак, — надзиратель сказал. — Ще — триста одиннадцать — есть у тебя такой?
— Надо по списку смотреть, — темнит бригадир. — Рази ж их запомнишь, номера собачьи? (Тянет бригадир, хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть.)
— Буйновский — есть?
— А? Я! — отозвался кавторанг из-под шуховской койки, иэ укрыва.
Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает.
— Ты? Ну, правильно, Ще — триста одиннадцать. Собирайся.
— Ку-да?
— Сам знаешь.
Только вздохнул капитан да крякнул. Должно быть, темной ночью в море бурное легче ему было эскадру миноносцев выводить, чем сейчас от дружеской беседы в ледяной карцер.
— Сколько суток-то? — голосом упав, спросил он.
— Десять. Ну, давай, давай быстрей!
И тут же закричали дневальные:
— Проверка! Проверка! Выходи на проверку!
Это значит, надзиратель, которого прислали проверку проводить, уже в бараке.
Оглянулся капитан — бушлат брать? Так бушлат там сдерут, одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. Понадеялся капитан, что Волковой забудет (а Волковой никому ничего не забывает), и не приготовился, даже табачку себе в телогрейку не спрятал. А в руку брать — дело пустое, на шмоне тотчас и отберут.
Все ж пока он шапку надевал, Цезарь ему пару сигарет сунул.
— Ну, прощайте, братцы, — растерянно кивнул кавторанг 104-й бригаде и пошел за надзирателем.
Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь? Сами клали БУР, знает 104-я: стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если зубы не растрясешь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни.
Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь.
А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой.
Пока в бараке живешь — молись от радости и не попадайся.
— А ну, выходи, считаю до трех! — старший барака кричит. — Кто до трех не выйдет — номера запишу и гражданину надзирателю передам!
Старший барака — вот еще сволочь старшая. Ведь скажи, запирают его вместе ж с нами в бараке на всю ночь, а держится начальством, не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет. Инвалид считается, потому что палец у него один оторван в драке, а мордой — урка. Урка он и есть, статья уголовная, но меж других статей навесили ему пятьдесят восемь — четырнадцать, потому и в этот лагерь попал.
Свободное дело, сейчас на бумажку запишет, надзирателю передаст — вот тебе и карцер на двое суток с выводом. То медленно тянулись к дверям, а тут как загустили, загустили, да с верхних коек прыгают медведями и прут все в двери узкие.
Шухов, держа в руке уже скрученную, давно желанную цигарку, ловко спрыгнул, сунул ноги в валенки и уж хотел идти, да пожалел Цезаря. Не заработать еще от Цезаря хотел, а пожалел от души: небось много он об себе думает. Цезарь, а не понимает в жизни ничуть: посылку получив, не гужеваться надо было над ней, а до проверки тащить скорей в камеру хранения. Покушать — отложить можно. А теперь — что вот Цезарю с посылкой делать? С собой весь мешочище на проверку выносить — смех! — в пятьсот глоток смех будет. Оставить здесь — неровен час, тяпнут, кто с проверки первый в барак вбежит. (В Усть-Ижме еще лютей законы были: там, с работы возвращаясь, блатные опередят, и пока задние войдут, а уж тумбочки их обчищены.) Видит Шухов — заметался Цезарь, тык-мык, да поздно. Сует колбасу и сало себе за пазуху — хоть с ими-то на проверку выйти, хоть их спасти.
Пожалел Шухов и научил:
— Сиди, Цезарь Маркович, до последнего, притулись туда, во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дневальными будет койки обходить, во все дыры заглядать, тогда выходи. Больной, мол! А я выйду первый и вскочу первый. Вот так…