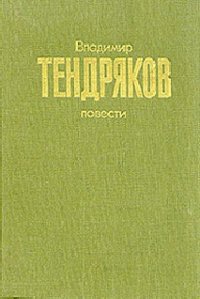Покушение на миражи - Тендряков Владимир Федорович (лучшие книги txt) 📗
Спаси ты, и я поступлю, как ты скажешь.
Лукас поднял усталые из-под серых век глаза.
— Ты привык торговать, Статилий Аппий. И сейчас готов продать свое милосердие подороже. Оплаченное милосердие — просто корысть, как купленная совесть — уже бессовестность.
Аппий долго разглядывал сутулящегося перед ним помощника — узкое лицо поражает худобой, глаза темные и больные. Как ни странно, сейчас всем нехорошо — ему, хозяину, его рабам и этому вклинившемуся страстотерпцу. Кто ж тогда счастлив на этом свете?
— Кто ты, чтоб оскорблять меня? — с глухой угрозой спросил Аппий.
— Твой брат.
— Нет — враг!
Лукас невесело улыбнулся:
— В наше время все друг другу враги — браг брату, сын родной матери.
Вспомни Нерона, Аппий, и поступи со мной так, как всегда поступал он,прикажи убить.
Аппий не хотел походить на Нерона, он проглотил обиду и постарался подавить в себе гнев.
— Ты будешь жить, — сказал он. — Ты будешь служить мне. Я стану действовать, и тебе придется меня оправдывать. Мы — братья. Ты и я. Рабы давно уже так считают. Они никогда не поверят, что ты спасаешь их, а не меня. Самое удобное в твоем положении — не подавать голоса.
Лукас опустил голову. Куда ему деться? Велик белый свет, но всюду в нем одни порядки, одна жизнь — богатые и обездоленные, властные и подвластные, и нет между ними такого пространства, где можно бы спрятаться.
Любвеобильному вольноотпущеннику Лукасу не найти иного места как быть при хозяине.
Свою верную домашнюю челядь Аппий облачил в панцири, вооружил тупыми гладиаторскими мечами, послал к рабам-надельщикам. Возле крытых камышом хижин раздались вопли, там били палками тех, кто утаивал от хозяина свои жалкие запасы.
Все, что отбиралось, свозилось на усадьбу Три Птицы, за высокий частокол, за крепкие стены. Охранники с длинными сарматскими копьями сторожили собранное добро.
Лукас молчал, возражать не мог, знал, что его возмущение будет встречено всеми с подозрением и со злобой. А слова о любви сейчас и вовсе прозвучат издевкой. Наиболее упрямых рабов-надельщиков забивали до смерти.
Там и сям горели камышовые крыши. Несколько матерей задушили своих детей, так как решили, что им все равно суждено умереть от голода. Лукас молчал, а все вокруг накалялось.
И вот — бунт. В Трех Птицах. Рабы перебили охрану, подожгли господскую виллу и склады с зерном. Статилий Аппий был готов к этому, заранее договорился с городскими властями — выделить ему манипулу из охранных когорт. И сейчас поднять ее на ноги не требовалось много времени.
С первыми лучами солнца от Аквилеи ускоренным шагом двинулся отряд легионеров — поблескивали латы, игриво вспыхивали лезвия вознесенных пилумов, качался значок манипулы.
Аппий в торжественной белой тоге, открывающей тунику с пурпурной всаднической полосой, ехал позади отряда. За ним сплоченной кучкой поспевали облаченные в гладиаторские доспехи домашние рабы, его личная охрана.
Аппий ни на шаг не отпускал от себя трясущегося на неоседланной лошаденке Лукаса, щурясь, вглядывался вдаль, мстительно говорил тихим, ровным голосом:
— Ты лжец, Лукас. Всего-навсего лжец. Ты лгал мне, себе, рабам, своему богу. Не может человек любить человека. На земле слишком тесно, Лукас, люди мешают друг другу. Так было и так будет.
Лукас встряхнулся, распрямился, повел, блуждающим затуманенным взглядом, с вызовом произнес:
— Оглядись, господин, раскрой глаза. Разве ты не видишь, какой простор кругом?
А оглянуться стоило. Они ехали однообразной равниной, ее конец означался в запредельной дали зыбкими, как облака, горами. Пока еще низкое солнце освещало сутулые опаленные горбы, между ними лежали низинки, до краев заполненные влажной тенью. В глубине неба плавали два ястреба, им нетрудно было окинуть с высоты степную бескрайность. И, должно быть, свободные птицы презирали ползущих по узкой дороге ничтожно маленьких людей, закованных в металл.
— Земля обширна, господин, и это ты видишь сам. На ней всем хватает места. Но человеческая алчность больше необъятной земли. Мы сейчас войдем в тот край, который ты зовешь своим. И будем идти и идти, не раз отдыхать, поить коней, а твое все не кончится. Зачем тебе столько земли, благородный Аппий? Ты так же мал, как и другие, тебе не под силу проглотить все, что на ней родится. И все-таки тебе тесно, тебе мешают, не даешь жить другим. Не безумен ли ты, Статилий Аппий? Если так, то достоин жалости.
А Аппий щурился на далекие синие горы.
— Ты уже достаточно жалел меня, Лукас, не пора ли тебе пожалеть и себя?
— Не пугай меня, Аппий. Что ты можешь мне сделать? Только одно отнять жизнь. Но неужели ты еще не понял — мне тяжело жить на этом свете, в котором тесно от алчности. Отними и живи сам, страдай от тесноты, дрожи от страха перед более алчными. Не позавидую тебе.
Обдуваемый ветерком, покойно покачивался на коне Аппий, покачивался и болезненно щурился в освещенную солнцем даль, не спешил с ответом.
— Я проверю, Лукас, — наконец сказал он. — Проверю, хочешь или нет ты жить дальше. Я предложу тебе выкупить жизнь. И цена, наверно, не будет очень большой.
Лукас огорченно вздохнул:
— Ты и тут остаешься торгашом, Аппий. А вот я никогда не торговал… жизнью. Ни своей, ни чужой.
Они продолжали ехать бок о бок.
Подымалось солнце, низинки, заполненные влажными тенями, исчезали, степь стала ровней и казалась теперь еще обширней. Два ястреба продолжали кружить в синеве над упрямо ползущими людьми.
Удушливый чад окутывал обломанные ветлы, истоптанную усадьбу, насыпь с выщербленным частоколом. Сквозь нечистый дым зловеще багровело оседающее солнце, и слепо метались выгнанные из загонов овцы. Их жалобное блеяние походило на капризный женский плач. Утробно мычали волы, пахло паленой шерстью, горелым мясом и едкой кислотой разлитого вина.
Были взломаны винные погреба, и нельзя сразу распознать, кто из валяющихся среди уксусной грязи рабов мертв, а кто мертвецки пьян.
К дымящемуся пепелищу виллы, от которой почти целиком осталась колоннада галереи, сгоняли схваченных женщин, детей, стариков. Мужчин было немного, большинство ушло в горы, их начнут ловить позднее, а пока хватает хлопот и с теми, кто есть. Только один рослый раб связан, он был пьян, крутил медно-гривастой головой, скалил белые зубы, рычал и рвался из веревок. Всех остальных тут же заставляли рыть ямы, подтаскивать столбы, набивать на них перекладины. Стучали топоры, лязгали лопаты, раздавались сдавленные выкрики, маячили в угарном тумане рослые фигуры легионеров — шла работа, виновники готовили для себя место казни.
Аппий с темным лицом, провалившимися глазами, но в белой, лишь чуть потускневшей от копоти тоге сидел на уцелевшей садовой скамье, и к нему кучками подгоняли рабов, ставили на колени. Лицо Аппия было темно не только от сажи — все запасы зерна уничтожены, скот разбежался, неизвестно, удастся ли собрать половину… Он бросал лишь скользящий взгляд на припавших к земле рабов, вялым движением руки указывал наугад. Рука часто попадала на детей.
Воины выхватывали указанных — вопли, стоны, женский плач, блеяние овец, стук топоров, угарный дым и низкое кровавое солнце.
Лукас торчал за скамьей позади Аппия, смотрел в земли, старался ничего не видеть. За его спиной переминались двое охранников, бородатых, остро пахнущих потом. Им приказано не отпускать управляющего.
Ночь прошла в угарной толчее. К рассвету потянуло свежим ветерком, согнавшим дым, открывшим унылое безобразие земли. И все было готово для казни — столбы, напоминающие какую-то редкую, мертвенно голую рощу, и стиснутая рослыми воинами тесная толпа обреченных. Сколько столбов, столько голов.
Но один столб стоял на отшибе, казался лишним.
Рабы распинали рабов. Те, кому вялый жест руки Аппия даровал жизнь, трудились в поте лица, казнили жуткой казнью своих товарищей. Легионеры брезговали этой грязной работой, стояли в стороне, наблюдали, величественные и невозмутимые.