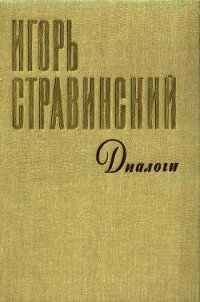Перед стеной времени - Юнгер Эрнст (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT, .FB2) 📗
Важная составляющая инициации – опустошение, в ходе которого напряжение нарастает до такой степени, что даже песчинка причиняет боль, падая на кожу барабана, натянутую до предела. Дом выбеливается. Там, куда входит новое, должно быть пусто.
Выбеливается даже могила. Смерть имеет прямое отношение к инициации как кризис, предшествующий превращению. С духовной, с моральной точки зрения оно просвечивается не дальше вестибюля. Его необходимо пройти, пережить – тогда дом будет освящен.
Укрыться от циклона, заявляющего о себе депрессией, невозможно ни фактически, ни нравственно, ни интеллектуально, и не важно, идет ли речь о личной катастрофе или же о космической, о конце света. И то, и другое можно выдержать, лишь не пытаясь уклониться. Путь ведет через нулевую точку, через линию, через стену времени и сквозь нее.
Во время кризисов все размеры сокращаются – это еще одна оптическая иллюзия. Близость смерти меняет пространство и время. Даже в отшельнических пещерах Фиваиды и в северных хижинах, даже в юрте, вокруг которой завывает ледяная буря, могут быть услышаны последние опустошающие слова: «Бог умер».
Большой надрез (Einschnitt), заявляющий о себе во всех слоях сознания преимущественно через страдание, также имеет множество зримых признаков, которые могут по-разному интерпретироваться.
Если бы изменения следовало понимать как начало космической катастрофы, это означало бы, что они открывают этап, на котором благополучие эмпирического человека и его невзгоды отступают на второй план. В этом заключается педагогическая ценность противостояния концу света и страху перед ним. От преодоления подобного кризиса может выиграть в том числе и эмпирический мир. Следовательно, такой вариант должен быть рассмотрен.
Между тем, даже если разрез не полный, напрашивается предположение, что он разделяет нечто большее, чем так называемые «исторические эпохи» – пусть и в том понимании, при котором история включает также до- и праисторию, то есть все время пребывания человека на планете.
Резонно предположить участие других величин – например, астрономических. Это снова возвращает нас к астрологии, но не потому, что ее учение следует понимать буквально, а потому, что ее величины одновременно практически измеримы и соотносимы с метафизическими качествами. Она дает нам не метод, но модель метода, превосходящего как исторический, так и естественнонаучный подход, поскольку и тому, и другому свойственно губительное отсутствие синоптики, [то есть совокупного видения].
Теперь возникает следующий вопрос: разделяет ли надрез два геологических периода и если да, то вторгается ли в наш мир так понимаемая новая эпоха со своими правилами и стандартами?
Прежде, во времена расцвета предсказательных практик, в подобной ситуации был бы предпринят тщательный поиск соответствующих признаков. Тогда всякое изменение, особенно связанное с небесными телами, рассматривалось не изолированно. В дальнейшем способность к подобному взгляду стала утрачиваться. В естествознании теории гармонического характера уступили дорогу стремительно наступающей механике, и поэтому такие великие труды, как «Космос» Гумбольдта, сегодня уже невозможны.
Жизнь обитает в доме мира. Геологические эпохи составляют анфиладу, по которой она проходит, – череду залов, границы между которыми могут вычленяться или не вычленяться. На различном восприятии этих границ основываются теории катастроф с одной стороны и эволюционные теории – с другой. И те, и те «правильны». Постель жизни временами превращается из места отдыха в прокрустово ложе, на котором не только меняется внешний вид явлений, но и приносятся в жертву органы. Поэтому всякий обобщающий труд по биологии должен учитывать геологическую ситуацию. Так было всегда. Главной работе Ламарка предшествовали одиннадцать томов «Метеорологического ежегодника», а знаменитый спор между Кювье и ламаркистом Жоффруа Сент-Илером, который состоялся в 1830 году и за которым увлеченно следил Гёте, велся на основании геологических предпосылок.
Теории катастроф имеют силу при любых обстоятельствах. Но Кювье, ища в палеонтологическом спектре полные разломы и воссоздания с нуля, рассматривал, очевидно, слишком короткие промежутки времени. Вероятнее всего, здесь были бы более уместны индийские масштабы, эпохи немыслимой протяженности.
Достовернее выглядит теория частичных катастроф – таких, которые затрагивали не все живое, а лишь некоторые виды и регионы, вследствие чего, однако, общая картина жизни и ее стиль все же менялись. Чаще всего таким катастрофам приписывается вулканический характер, хотя порой они действуют почти незримо – как, например, малейшие отклонения Гольфстрима от своего пути.
В самом слове «катастрофа» [79] зафиксирован тот факт, что человек гораздо острее воспринимает ту сторону жизненного переворота, которая ассоциируется у него с концом, со смертью, чем то, что ее уравновешивает, а именно вступление в мир чего-то нового.
Но и здесь работает закон сохранения энергии. Судя по всему, появление и распространение новых типов неизменно сопряжено с более или менее очевидными катастрофами, которые открывают для них дверь. Слои земли свидетельствуют об этом с отчетливостью картинок из детской книжки. При нынешнем развитии методов датирования то же самое должно быть очевидно и из научных сведений. Генеалогические древа, выстраиваемые сегодняшними зоологией и антропологией, отличаются от прежних. Ветви уже не расходятся ровными линиями, а то утолщаются, то утончаются, то отмирают. Эти схемы похожи на самшитовые деревья, гротескно подстригаемые садовниками. Они указывают на разрезы.
Такое расширение и такое сжатие, часто взрывообразные, трудно представить себе вне генеалогического обрамления. Struggle for life [80] играет здесь второстепенную роль, это всего лишь симптом. На первом месте позиционное преимущество. Если в результате повышения средней температуры на несколько градусов в Норвегии и на острове Огненная Земля вырастут пальмы, а на полюсах зацветет миндаль, обнаружатся не только ботанические, но и зоологические, а также этнические изменения, которые не просто суммируются: они создадут новую гармонию, новый стиль мира. Белые и черные историки оценят этот процесс по-разному.
Можно предположить, что у самой жизни еще есть ответ для крайних случаев, есть резервы. Мы находим ее в пустынях, в кипящих источниках, по краям ледников. Уничтожение органических форм жизни не может быть концом всего. Вселенная продолжит жить.
Связь жизни с геологической колыбелью, чувство Земли (Sinnder Erde) – как и большинство самых ценных подарков, это родство остается почти незаметным для нас, ощущаясь только в корнях. Оно – наша бессознательная родина, находящая воплощение в поэзии, а среди наук признаваемая лишь теми, которые появились недавно, такими как геополитика и геопсихология. Впрочем, вероятно, подобные влияния бывают тем сильнее, чем меньше обсуждаются.
На известковых почвах развивается иная жизнь, нежели на первичных породах. Там другие леса, другая вода, другие ветры. Общеизвестно, что вино и культ взаимосвязаны, но есть и другие связи, о которых так часто не вспоминают. И не нужно. Чувство Земли как здоровье: находится в лучшем состоянии, когда о нем не говорят.
Так было до недавнего времени. Теперь же появилось своего рода сознание, особое беспокойство, связанное с геологическими явлениями. Даже в этом отношении человек теряет ощущение защищенности. Кажется, будто он перестал доверять своей старой матери.
Объясняя такую перемену развитием измерительной техники, мы перевернули бы ситуацию с ног на голову. Появление усовершенствованных измерительных приборов является не причиной, а следствием возникшего беспокойства, попыткой придать ему упорядоченную форму. Оно уже давно наблюдается у натур тонко организованных, мантически одаренных, чутких к духу Земли. Можно сказать, что Ницше вел сейсмографическое существование в отношении почв, которых избегал или, наоборот, искал. Также нельзя не упомянуть Гёте: из воспоминаний Эккермана нам известно, что 13 ноября 1823 года он провидел землетрясение в Мессине. В 1902 году, когда вулкан Монтань-Пеле в считаные секунды убил горящим газом двадцать тысяч человек, Леон Блуа усмотрел в этом указующий перст, первое зримое звено цепи трагических событий. Его манера формулирования подобных наблюдений в высшей степени парадоксальна и desobligeante [81], что озадачивает и отталкивает читателя. Такое чтение требует особой благорасположенности.