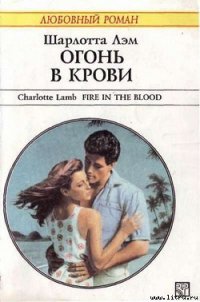И огонь пожирает огонь - Базен Эрве (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
Во всяком случае, эти храбрецы промчались с грохотом, не пожелав остановиться и подобрать бедолагу, даже если они его заметили. Они делают большие дела, их не интересуют мелочи. Замыкает колонну машина, наводящая мосты: значит, скорее всего, это рейд на какой-нибудь непокоренный город; колонна выплевывает еще несколько струй гари и исчезает. Все успокаивается; всполошенные птицы возвращаются на свои места, а к Мануэлю возвращается ощущение одиночества. Гаснут последние лампы, от которых опущенные жалюзи казались светящимися лесенками. Пять минут шестого. Что делает Мария? Спит еще?
— Если она проснулась, то, наверное, с ненавистью думает обо мне! — вслух произносит Мануэль, которому просто необходимо слышать звук своего голоса. — А ведь мы могли бы расстаться и более заурядно.
Его раздирает новый приступ икоты. Наркотиками себя не обманешь… О Мария, нам не дано узнать ни пресыщения, ни той обыденности, когда одно тело привыкает к другому, как к собственной квартире; ни того чувства, с каким ты, взяв в жены женщину, обнаруживаешь в ней другую — истинную; ни жажды принадлежать себе в большей степени, чем ты принадлежишь другому; ни поруганной нежности, исковерканной ссорами. Нам не дано узнать, что значат долги, описи расходов, ежемесячные подсчеты, домашние хлопоты, засилье безделушек, стремление к порядку в хозяйственных или денежных делах, страсть к приобретению. И стоит ли так уж об этом жалеть? Супружество — непрерывный износ, непрерывное расшатыванье. Всякая любовь трагична, поскольку у нее может быть лишь два конца: забвение или смерть. А наша — пылкая, быстротечная…
— Дурак! — кричит Мануэль.
Боль скручивает его. Усилие, которое ему пришлось затратить, чтобы спуститься из верхней части города, наверняка довершило то, что началось, когда прорвало аппендикс, и теперь заражение пошло по всему телу. Действие последнего укола кончилось. Живот превратился в мешок с горящими угольями, в адское пламя, про которое приютский священник, дававший им благочестивые картинки для псалтыря, говорил, что оно горит, не сжигая. Дурак! Не время сейчас взвинчивать себя по всяким пустякам. Мария в безопасности — это уже немало. Но все остальное — чистый проигрыш. Двойной проигрыш. Проиграв партию, политик приговаривает к смерти любовника. Раз нет любви долгой, значит, нет и молниеносной. Краткость при остроте чувств устраивает лишь зрителей, развалившихся в креслах перед большим или маленьким экраном, на котором мелькают кадры фильма и последний кадр появится ровно через девяносто минут — the end. [20] Любое дело, как и страсть, — это борьба с временем. И хорошо, прекрасно лишь то, что длится столько, сколько способно длиться. Погибшее дело, погибшая страсть — два угасших огня, груз слишком тяжкий для того, кто верит лишь в земное существование. Если загробной жизни нет, верующий вполне может проиграть свою ставку — правда, об этом он не узнает. А другие…
Мануэля снова рвет. Ночь начинает тускнеть. Луна медленно садится на далекую колокольню, которая врезается в нее и делит на две неравные части. У подножия статуи глухо кричит прижатая котом кошка. Порыв сухого ветра приподнимает обрывки грязной бумаги, трясет ветви деревьев, стирающих пустоту. Легкое шуршанье по асфальту.
— Шеф! Шеф! Взгляните направо. Там на третьей скамейке какой-то тип в пижаме лежит и блюет, — раздается молодой возбужденный голос.
— Опять пьяный! — презрительно бросает другой.
Свет электрического фонаря образует на земле ослепительный круг — он увеличивается, принимает форму овала, зигзагами приближается к скамейке, ореолом окружает голову нарушителя порядка.
— Ни с места, не то пулю заработаешь! — слышится третий голос. — Пьяница, пьяница… Сказать-то просто. Этот типчик кого-то мне напоминает. А ну, Матус, дай-ка сюда фотографии.
Вот, оказывается, почему он за шумом ветра не услышал их приближения. Господа прибыли сзади, и теперь Мануэлю приходится выворачивать шею, чтобы хоть краешком глаза увидеть их.
Метрах в пятнадцати от него остановился весьма своеобразный автомобиль, который сконструировали, должно быть, на другой день после путча, чтобы пассажиров не могли достать пули снайперов, засевших на крышах. Сверху он бронирован плотным листом железа, нависающим над дверцами; у окон противопулевые щиты — ставни на шарнирах, опускающиеся на борта или на капот; сейчас они как раз опущены. Четверо карабинеров сидят в кузове, посасывая четыре сигареты — сквозь дым виднеются четыре алые точки. Стражи порядка весьма осторожны — из-под касок торчат лишь носы возле прицелов автоматов. Сбоку машины, на капоте, подрагивает длинная антенна; в потолке зажглась лампочка, осветив красномордого детину, сидящего рядом с шофером; он старательно сличает лицо человека, лежащего на скамейке, с фотографиями, которые держит в руках. Один снимок привлекает его внимание. Он даже выплевывает окурок.
— Вот это да! — восклицает он, как громом пораженный.
Это, наверно, и есть шеф — какой-нибудь сержант. По его плохо выбритой физиономии с раздвоенным подбородком и выпученными рыбьими глазами расползается восторженная улыбка.
— Ну ребята, черт побери, нам крупно повезло. Это же Мануэль Альковар. За такую птицу и медаль получить можно.
— Похоже, худо ему, — замечает шофер.
— Боюсь, скоро станет еще хуже! — бросает красномордый и оборачивается, заметив, что его люди уже схватились за ручки, собираясь открыть дверцы. — Нет, все остаются на своих местах! Я сейчас позвоню. На Альковара надо получить специальное распоряжение — это дело высшего разряда. Ждите приказа и присматривайте за голубчиком. Не удивлюсь, если прикажут обращаться с ним по-особому.
Он хватает телефонную трубку.
— Фонарь держите нацеленным на него, все остальное выключите, — добавляет он, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. — Алло! Я девятнадцатый. Вы меня слышите? Я девятнадцатый…
Мануэль тщетно пытается приподняться. И отказывается от своего намерения. В самом деле, зачем ему глядеть на этих скотов, в чьи руки он отдал свою судьбу? Самым забавным было бы, если бы им приказали сначала отвезти его в больницу. Ведь цивилизованные люди прежде всего должны привести обреченного на смерть человека в надлежащее состояние, так как по закону казнить можно лишь здоровых людей. И это вовсе не местная традиция. Повсюду стараются поначалу привести узника в божеский вид, чтобы дать ему возможность сопротивляться на допросе «по высшему разряду». А теперь для него любая отсрочка опасна! Что отвечать на вопрос: где ты скрывался двадцать шесть дней? К счастью, маловероятно, чтобы при «особом обращении» предполагалась длительная отсрочка, скорее наоборот, в таких случаях требуется быстрота и полнейшая секретность. Повинуясь, очевидно, полученному по радио приказу, сержант — он все еще продолжал в трубку свой доклад — на всякий случай кричит:
— Мануэль Альковар!
— Здесь!
— Издевается он надо мной, что ли? — рычит сержант. — Ладно, главное, что это он и есть.
Надо успокоить его. Не волнуйтесь, сержант, — безвольный человек, который валяется на заблеванной скамейке, это и есть Мануэль Альковар, хоть он и очень о том сожалеет: что и говорить, все могло бы быть куда эффектнее. И даже элегантнее. Хорошо бы узнать у этого бедолаги сержанта, получающего грошовое жалованье, сносящего зуботычины и оскорбления, какое чувство испытывает он, собираясь расстрелять совсем незнакомого человека, который не сделал ему ничего плохого и который желал лишь одного — дать всем, в том числе и солдатам, хоть чуточку больше счастья. Хорошо бы перекинуться шуткой с этим почти безвинным палачом, как это сделал на эшафоте Томас Мор.
— Будто в воду глядел, — с досадой бормочет сержант. — Никому неохота устраивать процесс над этим скотом; он любой суд превратит в трибуну для себя. А так — никто знать не знал, видеть не видел, и мы все — молчок, а медаль — ну ее в задницу; черная работа — кому же и выполнять ее, как не нам. Главное, чтоб без света…
20
Конец (англ.).