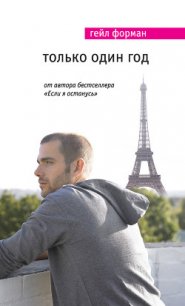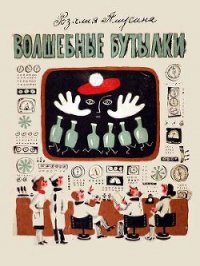Снеговик - Фарфель Нина Михайловна (читаем книги .txt) 📗
В провинции, где мы жили, к отцу моему относились с большим уважением, однако — странное дело! — поведение мое в отношении синьоры Гоффреди было сочтено романическим и недостойным человека серьезного. Я, видите ли, ничего не сделал, чтобы не разориться, — тем хуже для меня! И я еще имел глупость добиваться должности, я, которого знали как безрассудного мота, как безумца! Поэтому думать о том, чтобы получить место в Перудже, мне не приходилось. В Риме один из друзей моего отца рекомендовал меня в качестве воспитателя неаполитанскому принцу, у которого было два сына, ленивых и глупых, и горбатая дочь, кокетливая и влюбчивая. Спустя два месяца я покинул свою должность, дабы избавиться от взглядов этой героини романа, героем которого я вовсе не хотел стать.
В Неаполе я нашел еще одного друга моего отца, ученого аббата, который определил меня в другую семью, менее богатую, но значительно более неприятную и где ученики оказались еще большими тупицами, чем в первой. Мать их, женщина уже немолодая и некрасивая, сразу же невзлюбила меня, потому что я не поддался ее чарам. Я не кичился своей строгою добродетелью и ни в какой степени не рассчитывал, что первой моей любовью непременно будет богиня, — я умел довольствоваться гораздо меньшим, ко даже если бы хозяйка дома была недурна собою, я все равно не хотел становиться любовником женщины, которая распоряжалась мною и платила мне деньги. Я снова отправился к ученому аббату и рассказал ему о своих огорчениях.
«Ну так вы сами в этом виноваты, — рассмеявшись, ответил он, — вы красивый малый, поэтому вы и привередничаете».
Я умолил его рекомендовать меня какому-нибудь вдовцу или сиротам. Спустя некоторое время он спадал мне, что все уладил. У юного герцога де Виллареджа умерли родители; у него не было ни сестер, ни теток. Воспитывался он у дяди-кардинала, и нужен ему был не гувернер — у него он был, — а учитель языков и литературы; я был принят. Работать там мне было не только приятно, но и выгодно. Кардинал был человеком начитанным и умным; племянник его, которому было тринадцать лет, оказался мальчиком способным и обходительным. Я очень к нему привязался, и, занимаясь со мной, он сделал большие успехи, причем одновременно с ним многому научился и я. У меня была отдельная комната, вечерами я бывал совершенно свободен и мог посвятить это время занятиям. Кардинал был настолько доволен мною, что старался, чтобы я не брал никаких других учеников, и довольно щедро меня вознаграждал.
На протяжении почти целого года я усердно трудился, и ничто меня не отвлекало. Я был так поглощен своим горем, так отчетливо ощущал свою отчужденность от общества, что относился к жизни, может быть, серьезнее, чем она того заслуживала. Я мог превратиться в педанта, если бы кардинал не принялся хитро и осторожно приобщать меня к легкомыслию и испорченности нашего времени. Он сделал из меня светского человека, и я не очень-то знаю, должен ли я быть ему за это благодарен. Я приучился тратить много времени на туалет, ухаживание за женщинами и любовные утехи. Во дворце кардинала собирались местные острословы и самые блестящие люди города. От меня не требовали, чтобы я обучал моего ученика нравственным правилам, но хотели, чтобы я научил его приятной легкости светского обращения. Мне же самому полагалось только быть со всеми любезным. Это было нетрудно, ибо меня окружали люди легкомысленные и доброжелательные; я сделался прелестным, быть может, более прелестным, чем приличествовало быть сироте, не имеющему ни покровителей, ни состояния, ни будущего.
Мало-помалу я стал вести распущенную жизнь и одно время оказался даже на плохой дороге, причем окружающие потакали моим дурным наклонностям и, казалось, еще больше сталкивали меня вниз. От окончательного падения меня удерживало только воспоминание о моих родителях и опасение оказаться недостойным доброго имени, которое они мне оставили, ибо надо сказать, что в завещании своем отец предписывал мне называться Кристиано Гоффреди, и под этим именем меня знали в Неаполе. Это высокочтимое имя служило мне отличной рекомендацией людям серьезным и рассудительным, но я очень скоро позабыл, что простое происхождение, о котором оно свидетельствовало, должно было призвать меня к большему благоразумию и сдержанности в моих взаимоотношениях с титулованной молодежью, с которой я сталкивался во дворце кардинала. Предупредительность моя привела к большой близости с нею. Молодые люди эти были довольны тем, что во мне не было ни неуклюжести, ни суровости профессионального педагога. Меня приглашали, меня увозили с собой. Я принимал участие во всех развлечениях самой блестящей молодежи.
Кардинал поздравлял меня с тем, что мне удавалось сочетать ужины, балы и ночные бдения с точностью и ясностью, которыми неизменно были отмечены мои занятия с его племянником. Однако я отлично видел и чувствовал, что недостаточно развиваю свои ум, что останавливаюсь на полпути, что незаметно превращаюсь в болтуна и пустоцвета, становлюсь светским комедиантом и салонным портом, что я не сделал никаких сбережений для предстоящей мне свободной жизни и поддержания собственного достоинства, что у меня слишком много прекрасного белья, но слишком мало полезных знаний, наконец, что я попал словно в тиски между двумя параллельными линиями — беспутством и ничтожеством и рискую никогда не выбраться из этого плена.
Мысли эти, которые чаще всего я старался от себя отгонять, иногда все же возвращались ко мне, и я бывал ими очень озабочен. Самые упоительные наслаждения нисколько меня не забавляли. В родительском доме, в обществе отца и матери, я испытывал более высокие радости и более живые развлечения. Я предавался воспоминаниям о тех чудесных прогулках, которые мы совершали вместе с какой-нибудь серьезной целью, испытывая от них всегда истинное удовлетворение, а в лихорадочном возбуждении моей новой жизни я только томился и вновь возвращался к раздумьям о собственной участи, об окружавшей меня гнетущей праздности. Я начинал мечтать о том, как полнокровно можно жить, совершая дальние путешествия, и, видя, что кошелек мой неизменно пуст, спрашивал себя, не лучше ли было бы истратить на удовлетворение здоровых физических потребностей и духовных интересов те средства, которые шли на развлечения, оставлявшие лишь тяжесть в теле и пустоту в душе. Внезапно я начал чувствовать себя совершенно чуждым суетному свету, раболепному обществу, расслабляющему климату, ленивому населению — словом, всему, что меня окружало и с чем я не был связан прочными семейными узами. Я чувствовал, что становлюсь одновременно и более деятельным и более углубленным в себя. Несмотря на мои двадцать три года и бедность, я думал также о том, чтобы жениться, завести семью, чтобы было для кого беречь деньги и о ком заботиться. Но кардинал, которому я поверял одолевавшие меня по временам душевные тревоги, только отшучивался и называл меня безумцем.
«Ты слишком много выпил или слишком много работал вчера вечером, — говорил он, — в голове у тебя туман. Ступай-ка развей его, взгляни на Чинтию иди на Фьямметту, не вздумай только жениться ни на той, ни на другой».
Я любил кардинала; это был человек добрый и веселый. Но хоть он и обращался со мной по-отечески и без всякой спеси, я слишком хорошо понимал, что в нем было больше любезности, нежели любви, что он умеет окружать себя приятными людьми и что я меж них кое-что значу, но что он не из тех, кто захочет в течение долгого времени переносить мое присутствие, если я впаду в меланхолию или стану скучным.
Я старался заглушить свою тоску и забыться, упиваясь собственным благополучием, жить сегодняшним днем, не заботясь о завтрашнем, подобно всем, кто меня окружал. Мне это не удалось. Скука еще более возросла, отвращение стало неприкрытым. Я пресытился доступной любовью, чувственными увлечениями, которые охотно разделяли со мной женщины всех сословий. Для меня, бедного простолюдина. Эти наслаждения были поначалу притягательны, как всякий успех у женщин. Убедившись, что мой цирюльник, который был очень красивым малым, пользуется не меньшим успехом, я возненавидел всех маркиз. Я решил уехать из Неаполя. Я попросил кардинала отправить меня на одну из его вилл в Калабрии или Сицилии: я готов был стать управителем или библиотекарем все равно где: я жаждал отдыха и одиночества. Кардинал еще больше поднял на смех мое стремление уединиться. Он в это не верил. Он считал, что я так же не создан быть управителем, как и монахом.