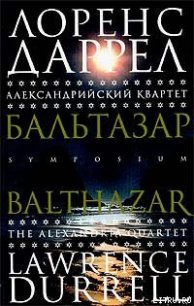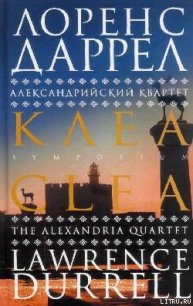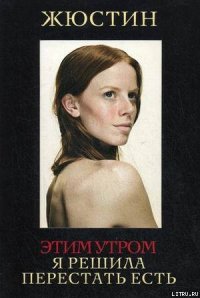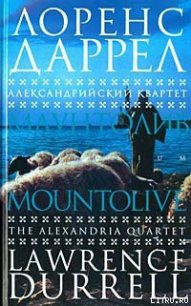Жюстин - Даррелл Лоренс (хорошие книги бесплатные полностью .TXT) 📗
Сквозь насупленные брови и раскоординировавшийся от возбуждения стеклянный глаз я увидел вдруг Нессима, короткая вспышка, как по наитию, сидящего за массивным столом в холодном сплетении стальных трубок, в конторе, не спускающего глаз с телефона, и на лбу его — крупные бисерины пота. Он ждал сообщения о Жюстин — еще один поворот ножа. Скоби покачал головой. «Нет, речь не столько даже о нем, — сказал он. — Он замешан в деле, конечно же. Но командует человек по имени Бальтазар. Смотри, что перехватила наша цензура».
Он извлек из папки открытку и протянул ее мне. У Бальтазара изысканный почерк, и руку я узнал немедленно; но я не смог сдержать улыбки, когда увидел на обороте открытки всего лишь шахматную диаграмму бустрофедона. Маленькие квадраты, заполненные греческими буквами. «У него хватает наглости, черт его дери, даже не запечатывать их в конверты». Я изучил диаграмму и попытался вспомнить то немногое в оккультном счислении, чему успел научиться у моего друга. «Система девятого уровня сложности, — сказал я. — Слишком сложно для меня». — «Они устраивают регулярные сходки, старина, обмениваются информацией, — сказал Скоби, снова перейдя на ультразвук. — Это я знаю наверняка». Я тихо взвесил открытку кончиками пальцев, а в ушах моих эхом отдавался голос Бальтазара: «Долг мыслителя — навести на мысль; долг святого — молчать о постигнутом».
Скоби откинулся на спинку стула, не пытаясь скрыть самодовольной улыбки. Он надул щечки — этакий зобастый декоративный голубь. Он снял с головы феску, оглядел ее милостиво и покровительственно — и надел сверху на чехольчик для чайника. Затем поскреб костлявыми пальцами изрытый извилинами череп и продолжил: «В общем, мы никак не можем их расшифровать. Их у нас дюжины. — Он показал мне папку, полную фотокопий таких же точно открыток. — Наши дешифровщики головы над ними повывихнули, а ведь у нас есть даже университетские старшекурсники, гении в математике. И все по нулям, старина». Тоже мне, удивил, подумал я, опуская открытку на пачку фотокопий и возвращаясь к созерцанию Скоби-контрразведчика. «Вот здесь-то в игру включаешься ты, — сказал он, скорчив рожицу, — если, конечно, ты согласен, старина. Нам нужен ключ к шифру, сколько бы времени у тебя это ни заняло. Мы дадим тебе чертовски хорошее жалованье, а? Что скажешь?»
Что я мог сказать? Идея была чересчур хороша, чтобы дать ей погибнуть. К тому же за последние несколько месяцев я настолько запустил свои школьные дела, что пребывал в полной уверенности — в конце семестра контракта со мной не возобновят. Я постоянно являлся в школу прямо со свидания с Жюстин и, понятное дело, постоянно опаздывал. К тетрадкам я вообще не притрагивался. С дирекцией, а заодно и с коллегами-учителями вел себя просто по-хамски. И вдруг — возможность полной независимости. В голове моей возникла фраза, сказанная Жюстин, ее голосом: «Любовь наша стала подобна постыдной оговорке в общеизвестном афоризме», — я подался вперед и кивнул. Скоби испустил счастливый вздох и облегченно расслабился, а расслабившись, снова вдруг стал — пиратом. Он перепоручил свою контору невидимому Мустафе, обитавшему, очевидно, где-то в кишочках черного телефонного аппарата, — Скоби всегда глядел в телефонную трубку, как в глаза собеседнику. Мы вышли вместе и снизошли до услуг служебного автомобиля, мигом умчавшего нас обратно к морю. Дальнейшие детали моего трудоустройства можно было с не меньшим успехом обсудить за маленькой бутылочкой бренди, припасенной на случай в нижнем ярусе его поставца.
Мы любезно позволили высадить нас на Корниш и прошли остаток пути пешком, миропомазанные пряным великолепием лунного света, глядя, как распадается на составные части и снова собирается воедино Город в вялотекших синусоидах вечерней дымки — набрякший инертной ленью лежащей вокруг пустыни и Дельты, зеленой аллювиальной Дельты; ленью, въевшейся в самое его нутро, альфой и омегой всех его ценностей. Скоби всю дорогу болтал, перескакивая с пятого на десятое. Я помню, он клятвенно уверял меня в том, что остался сиротой едва ли не во младенчестве. Его родители погибли вместе и при весьма драматических обстоятельствах — позже он почерпнул в их смерти немало пищи для размышлений. «Мой отец был одним из автомобильных пионеров, старина. Первые гонки, бешеные скорости: миль, наверное, двадцать в час — ну, и все такое. Было у него свое собственное ландо. Как сейчас его вижу, за рулем, с большими усами. Полковник Скоби, кавалер Военного креста. Служил в кавалерии, улан. И мать тоже сидит с ним рядом, старина. Никогда не расставались, даже во время гонок. Она у него была за механика. В газетах вечно публиковали их фотографии, вместе, на старте, на лицах густые такие сетки, как у пасечников, — Бог знает зачем пионеры носили эти сетки. Может, пыль».
Из-за сеток они и погибли. На крутом повороте во время гонок по маршруту Лондон — Брайтон на старом Брайтонском тракте сетку его отца, сидевшего за рулем, затянуло в переднюю ось. Его вышвырнуло на дорогу, а машина пролетела вместе с матерью чуть дальше и врезалась в дерево. «Он, правда, всю жизнь именно о такой смерти и мечтал, единственное утешение. Они на четверть мили опережали ближайшего соперника».
Нелепые истории с трагическим концом всегда приводили меня в восторг, и я лишь ценою титанических усилий сдерживал приступы смеха, пока Скоби живописал сей прискорбный случай, зловеще вращая стеклянным глазом. И все же, пока он говорил, а я внимал ему, половина моих мыслей бежала по обходной дорожке, пробуя на вкус мою новую работу, пытаясь выразить ее в терминах долгожданной свободы. В тот же вечер, чуть позже Жюстин должна была ждать меня неподалеку от Монтасы — шикарный автомобиль тихо гудит, будто бражник, в овеваемой пальмами полутьме у дороги. Как она на это посмотрит? Конечно, она будет рада моему освобождению от кандалов нынешних моих способов зарабатывать деньги. Но будет и легкий шок, неприметная гримаса неудовольствия — ведь эта свобода сделает возможным дальнейшее взаимопроникновение душ и разрастание лжи, а еще — поможет нашим судьям поймать нас с поличным. Вот и еще один парадокс любви: то, что сблизило нас — бустрофедон, — может, овладей мы теми качествами, которые за ней стояли, разлучить нас навсегда, едва лишь мы, ослепленные друг другом, переступим черту дозволенного.
«А между тем, — слышу я голос Нессима, тихий, без напряжения голос человека, которому случилось любить по-настоящему, но не получить любви взамен, — я пребывал в головокружительном возбуждении, и единственный способ расслабиться был — действовать, но природы достаточного и необходимого действия я никак не мог распознать. Дикие вспышки самонадеянности чередовались с приступами депрессии, столь глубокими, что я думал — не выкарабкаюсь. Со смутным чувством, будто я готовлюсь к состязаниям — как атлет, — я стал брать уроки фехтования и тренироваться в стрельбе из карманного пистолета. Я одолжил у доктора Фуад-бея учебник токсикологии и углубился в штудии химического состава и воздействия различных ядов». (Я выдумал слова — не смысл слов.)
Мало-помалу он стал замечать за собой движения души, анализу не поддающиеся. Периоды опьянения сменялись вялотекущими днями, когда он чувствовал в полной мере тяжесть одиночества, в первый раз в жизни: дух его бился в агонии, а он никак не мог найти выхода ни в живописи, ни в деятельности — хоть какой-то. Он постоянно думал о своем детстве и юности: дом матери, прохладный среди пуансеттий и пальм Абукира, плещет вода между бастионами старого форта, волна за волной, вымывая к ногам день за днем из самого раннего детства, и лепит из них, как из глины, единое ощущение детскости, рожденное зрительной памятью. За эти воспоминания он цеплялся со страхом и ясностью видения, ранее ему незнакомыми. И все это время под шелковым покровом нервного истощения — ибо незавершенное, несовершенное действие, обертон его бессонниц, жгло его изнутри, как coitus interruptus [40], — плодился вирус возбуждения: Нессимов разум был против него бессилен, более того, он отказывался сопротивляться. Его словно подстрекали изнутри подойти ближе, еще ближе… к чему же? Он не знал; но здесь его охватывал издревле знакомый страх безумия, чувство равновесия покидало его, и время от времени случались приступы головокружения, заставлявшие его вслепую раскидывать в стороны руки в поисках — стула? дивана? — чтобы сесть. Он садился, дыхание его едва заметно учащалось, и на лбу понемногу проступал пот; и первое чувство после приступа было чувство облегчения: внутренняя его борьба осталась незаметной постороннему глазу. Еще он стал замечать, что невольно повторяет вслух фразы, которым отказывался внимать его разум. «Прекрасно, — услышала как-то раз Жюстин его замечание, обращенное к одному из зеркал, — ты становишься неврастеником!» Чуть позже, когда он уже окунулся в искристый, пронизанный серебряными иглами звезд воздух, Селим, сидевший за рулем, услышал продолжение: «Не кажется ли тебе, что эта еврейская лиса сожрала твою жизнь?»
40
Прерванное соитие (лат. ).