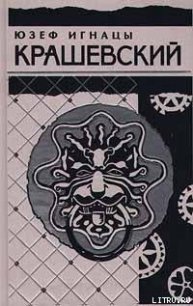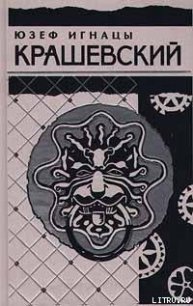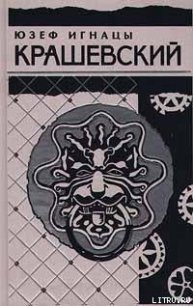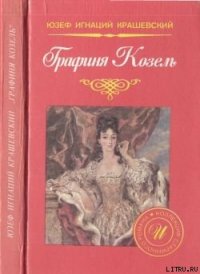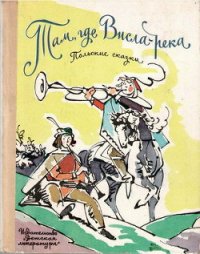Роман без названия - Крашевский Юзеф Игнаций (лучшие бесплатные книги .txt) 📗
В старости сила влияния уменьшается, человек, подобно черепахе, прячется под отверделым панцирем своего прошлого, — чтобы воспринять влияние и оказать его, тут уже требуется больший срок, но в детстве и в юности изменения происходят на диво быстро, и порою после нескольких лет общения самые противоположные характеры и даже физиономии что-то заимствуют друг у друга. Физиологи давно приметили, что после долгих лет супружества меняются даже лица, приближаясь к единому типу, — да и я не однажды убеждался, что у детей в их общении с нянями происходит то же самое. Поэтому в молодости выбор друзей, общества имеет значение чрезвычайное. Нрав тогда портится, исправляется, меняется постепенно, но неотвратимо.
Станислав в ежедневном, пусть и недолгом общении с юной еврейкой, вероятно, оказывал немалое воздействие на развитие этого ума, жаждавшего знаний, просвещения, исполненного ненасытной любознательности и открытого всем впечатлениям. Каждое новое слово мгновенно подхватывалось, обсуждалось, становилось предметом размышлений для девушки, стремившейся понять учителя и приблизиться к нему духовно. Но этим не ограничилось влияние нашего поэта, невольно и самым сухим занятиям придававшего некую поэзию. Натуре человека свойственно тянуться к более высокому и совершенному и в конце концов проникаться к нему любовью, и Сара, для которой Станислав был идеалом, полюбила его со всем самозабвенным пылом юного сердца. Она, конечно, знала, что ее отделяют от него тысячи неустранимых, непреодолимых преград, понимала, что Шарский может ей ответить всего лишь жалостью, но она не владела своими чувствами, любовь брала верх над опасениями. Этот юноша был настолько выше всех, кого она знала, настолько казался ей благородным, прекрасным, что ее душа, подобно луне, силою притяжения увлекаемой за планетой, не могла не следовать за своим господином. Однако ничто не выдавало ее чувств, разве что долгий, влажный взгляд, светившийся тихим, затаенным огнем, которого Станислав просто не замечал. Порою, заглядевшись на прелестное лицо девушки, он задумывался над ее судьбой и скорбел о ее жалкой участи, но, кроме очарования, исходившего от ее красоты, ничто пока не влекло его к ней. Сара стыдилась даже намеком выдать свои мысли, стыдилась высказать их на языке, изящество которого понимала и боялась испортить, — только глаза ее и выразительное лицо безмолвно говорили Шарскому о том, о чем он не догадывался и чего понять не мог.
У женщин, ведущих светскую жизнь, при которой одно впечатление непрестанно сменяется другим, даже любовь не может быть такой, как у женщин-затворниц, — этот цветок, чтобы распуститься во всей своей красе, нуждается в тишине и уединении. В сутолоке житейской, полной суеты и разнообразных встреч, редко увидишь, а то и вовсе не найдешь истинно пылкую страсть и тем паче постоянство — каждый бутон, не успевая распуститься, опадает, сбитый ветром. Но в ненарушимой тиши уединения, оставленный наедине со своими мыслями и сердцем, человек легко впадает в экзальтацию и любое переживание у него разрастается, обретает силу необычайную. Встречаемые им люди оказывают более сильное впечатление, его чувства глубже проникают в сердце, мысль работает живее. Святые, пророки, аскеты не случайно жили в скитах, в пустынях, в монастырях — мирская жизнь не позволила бы им подняться до тех высот, коих они достигали, оставаясь наедине с богом и с собою. И любовь человеческая, земная повинуется тем же непреложным законам, она для своего роста также нуждается в затворничестве, в одиночестве, в отшельнической келье, сооруженной из тишины и размышления. Итак, нетрудно понять, что Сара, совершенно одинокая в родительском доме, в этой келье средь шумного города, замкнутая наедине со своей молодостью, свежестью чувств и пылким сердцем, предавалась грезам, проводя дни и ночи в любовных мечтах.
Она вздрагивала, когда Станислав входил в дом, различала его шаги среди уличного шума, они словно бы отдавались эхом по всему дому, она предугадывала его приход и, прижимаясь своей головкой, увенчанной черными косами, к оконному стеклу, бывала уверена, что увидит его на улице, — настолько чувства соединяли ее с каждым шагом любимого. Однако со стороны Станислава она встречала лишь холодное безразличие — спокойное, приветливое, сочувственное, но такое холодное! Ей казалось, что никогда его сердце не забьется чаще ради нее. Он же видел в ней еще ребенка, но главное, главное — не забывал, что она еврейка!
С того вечера, когда Абрам явился к нему на чердак, старик больше не показывался, а хозяин дома и его жена обходились с ним куда любезней. Видимо, они сумели оценить юношу не только по результатам его уроков — впрочем, весьма заметным, ибо понятливая девушка необычайно много из них почерпнула, — но и за его благовоспитанность, скромность и благородный характер. Вначале-то они держались высокомерно, чуть ли не презрительно, но мало-помалу стали его уважать и считаться с его мнением. Иначе и быть не могло — детей Израиля, изгнанников, разбросанных по всему свету, бог наделил особым пониманием людей, с которыми они в своих странствиях постоянно сталкиваются, и Давид, будучи вдобавок купцом и постоянно имея дело со все новыми людьми, был недюжинным знатоком характеров. Он почти сразу понял и оценил достоинства Станислава, его благородство и как-то невольно склонил голову перед тем, кого нанимал и чью бедность знал лучше, чем кто-либо. Высшие, избранные натуры внушают уважение к себе, вынуждая даже недругов признать их превосходство.
И постепенно положение Стася в этом доме изменилось к лучшему, быть может, не без влияния Сары, не скрывавшей своего преклонения перед учителем, но скорее вследствие неизбежного хода вещей. Станислав чувствовал себя все легче, все свободней — купец, при всей своей расчетливости, несколько раз даже менял условия их договора на более выгодные для Станислава, опасаясь лишиться учителя. Давид пригодился Шарскому и в литературных делах — служащие типографии, взявшие его рукопись для просмотра, узнали, где он проживает, и прибежали расспросить хозяина дома о постояльце. Купец высказал о нем как о наставнике своей дочери самое лестное мнение и, в свой черед выведав у них, почему они о Шарском спрашивают, и услыхав о рукописи, посоветовал ее приобрести. Вечером Давид рассказал об этом жене и Саре, а на следующий день во время урока красавица ученица не могла удержаться, чтобы не спросить Стася, правда ли то, что она о нем слышала.
Станислав сперва удивился, откуда ей об этом известно, но затем, рассмеявшись, с готовностью признал свой грех.
Сильно робея, Сара спросила его, не может ли он дать ей польские книги, не посоветует ли, что читать. Еще более удивленный таким желанием, Шарский посмотрел в ее черные глубокие глаза, в которых светилась такая мольба, что отказать было невозможно. Он пообещал не только книги, но и помощь в их чтении.
Сара заалелась от радости, улыбнулась, но даже не посмела поблагодарить иначе как взглядом, который, пожалуй, впервые взволновал молодого человека, ощутившего силу ее глаз.
— Да я просто ребенок! — сказал он себе, придя в свою каморку и осознав, что не может избавиться от этого взгляда, маячившего перед ним. — Почему ее черные глаза глядели на меня так странно? Неужели это душа, способная меня понять? Неужели это сердце может полюбить? Но ведь она женщина! Это девочка, которая в жизни еще сто раз изменит, от которой нечего ждать постоянства! Ох, и глупое же я дитя! Так легко привязываюсь, прикипаю душою ко всем. Пожалуй, доведись мне расстаться с этим неопрятным домом, с этой еврейской семьей, мне было бы жаль покидать их и Сару!
Он сам себя высмеял, однако, как ни старался вспоминать Аделю, отвлечься, углубиться в прошлое, ничего не получалось, — тихий, глубокий, выразительный взгляд Сары застрял в его сердце, и на память приходили старинные стихи, сравнивавшие взгляд женщины со стрелою. Но ему еще не верилось, он не мог допустить, что в его странном состоянии таится зародыш истинного чувства, — он объяснял все это болезненной впечатлительностью поэта, случайной причудой. И в необычном волнении, которого сам не понимал, он сел сочинять одну из тех тоскливых песен, какими уже исписал немало страниц, невольно вставляя в них черные очи, тихий взор, молчаливую грусть и загадочный образ еврейки, витавший перед его глазами.